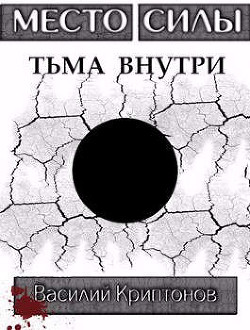с короткими рукавами, в цветастом коротком передничке и в таком же цветастом платочке, повязанном по-мокшански, с узелками на лбу, она выглядела бы совсем девчонкой, если бы не какая-то вялость, безразличие, которые проступают в ее движениях. Вот уж который раз она водит тряпкой по оконной раме, а сама смотрит куда-то в сторону.
По улице прогромыхала автомашина с молочными бидонами, гуднул уходящий в город автобус, а Тоня все водит рукою по косяку и смотрит в одну точку, уйдя в невеселые думы.
Я окликнул ее, и она вздрогнула, встрепенулась, обращенные на меня синие глаза оживились.
— Что, Иван Аркадьевич? — Тоня бросила на подоконник тряпку и подбежала ко мне.
— Садись, Тоня. Посиди со мной.
Она быстро принесла стул, и, поставив его рядом с моей кроватью, села. Я снова, и уже в который раз, удивился, как быстро с ее лица улетучились безразличие и гнетущая тоска. Положив на колени руки, она обратила ко мне расцветшее в улыбке лицо. Ей было радостно, когда она оказывалась нужной.
— Может, сходишь в магазин, купишь чего-нибудь?
Она тут же с готовностью вскочила.
— А что купить, Иван Аркадьевич?
Что же, правда, купить? Мне ничего не хочется, я потому и позвал ее, чтобы отвлечь от тягостного состояния.
— Да купи, Тоня, конфет. Или чего-нибудь другого, сладкого. Смотри сама. Прогуляйся! Не спеши. Это вот я лежу, как привязанный, а тебе-то чего сиднем сидеть?
Но что такое? Почему взгляд Тони стал блекнуть, краска оживления на лице погасла и она опустила голову.
— Хорошо! Я пройдусь немного, — сказала она и, совершенно подавленная, вышла из спальни.
«Что это с ней? Что за мгновенные перемены настроения?»
И вдруг меня будто ужалила догадка:
«Да ведь она подумала, что я нарочно выпроваживаю ее, чтобы не надоедала своим присутствием».
— Тоня!
Обернулась, на лице недоумение. Чего еще, мол?
— Да шут с ними, Тоня, с конфетами! Не хочу я оставаться один. Посиди, пожалуйста, со мной.
С каким-то недоверием во взгляде, чего-то еще боясь, Тоня снова присела на стул, смотрела на меня и ждала.
— Что муж-то пишет? — спросил я как только мог участливо, в душе казня себя за этот иезуитский вопрос.
— Теперь будто лучше себя чувствует. Пишет, может, через полгода и выпишут…
— Это хорошо!
— Хорошо-то хорошо, Иван Аркадьевич. Да вот квартиры не находится. Думала, неделю-другую мы у вас проживем, а уж сколько времени прошло.
— Из-за этого не стоит расстраиваться. Ведь мы же неплохо разместились. Никто никого не стесняет. Это даже хорошо, что вы живете с нами. Кто бы сейчас за мною ухаживал?
— Я и так день и ночь благодарю вас, Иван Аркадьевич. Совсем бы пропала, если бы не вы…
В глазах Тони тепло и благодарность. Слова текут тихо, спокойно.
Но вот она снова вспомнила о квартире, и голос неприятно затвердел:
— Все село обошла, никто не пускает. Вижу: из-за Чуклаева. Не любят его здесь. Буду в городе искать угол.
— Не торопись. Куда ты к зиме поедешь? В городе еще труднее найти жилье. Если уж сниматься с места, то весной. Может, к тому времени и с иконой все определится, какой-нибудь музей купит ее.
— Товарищ ваш пишет, будто…
Тоня остановилась, испуганно прикусив губу, и залилась краской.
— Что — «будто…»
— Да ничего особенного… будто отдал он ее кому-то посмотреть…
— Это я, Тонечка, знаю. А что еще он пишет?
— Да я ж сказала, Иван Аркадьевич: ничего особенного. Клавдия Лазаревна лучше знает…
— Я вижу, и ты все знаешь, да сказать мне не хочешь…
— Ну, не сорока ли я болтливая, — запоздало казнила себя Тоня. — Ничего особенного в письме и не было…
— Так найди-ка мне его, Тоня, я взгляну, что там…
— Да откуда ж я знаю, Иван Аркадьевич, куда его Клавдия Лазаревна положила?
— Такая тайна? У нас с ней от тебя тайн нет. Ты как член нашей семьи. А теперь, когда я свалился, и вовсе… Поищи-ка, поищи письмо…
Тоня посмотрела на меня умоляюще.
— Как я теперь Клавдии Лазаревне на глаза покажусь?
— Да не бойся ты, ничего я ей не скажу. Поищи, поищи письмо.
— Не надо искать, Иван Аркадьевич, — решилась она, нервно теребя в руках косынку. — Ругал вас очень ваш товарищ из Москвы. Говорит, могли вы уни… унихальную…
— Уникальную, может?
— …Вот-вот… Уникальную вещь испортить…
«Уникальную! — Я ликовал — Аким безделицу уникальной вещью не назовет!»
— А ничего он не написал, что там… под черным слоем на иконе?
Тоня опустила голову и молчала: очевидно, радость, бушевавшая в моем сердце, прорвалась и в голосе. А ей наверняка и врач и Клава наказывали беречь меня от всяких волнений.
Нечестно было с моей стороны подводить ее, настаивая на подробностях, но остановиться я уже не мог.
— Ну что там, Тоня? Одно слово…
Тоня молчала, отвернувшись к окну.
— Не знаешь или не хочешь сказать? Ну, Тоня. Теперь уж все равно не успокоюсь, пока не узнаю детали. Скажи только, есть там что-нибудь или нет?
— Какой вы, однако, Иван Аркадьевич! Ну неужели нельзя потерпеть до поправки?
— Тоня! Да ведь один раз живем! Вдруг со своим мотором не дотяну я до этого открытия?..
— Да что вы такое говорите! — искренне всполошилась Тоня. Она рванулась к кровати, мягко нажав на плечи мне, заставила опуститься на подушки и подоткнула одеяло.
— Выпейте-ка лучше лекарство и забудьте обо всем. Да случись такое, я весь век себя проклинать буду. Надо было мне притащить ее сюда, эту икону. Вот вам из-за нее сколько неприятностей! Какой-то древний апостол на ней изображен под чернотой-то…
Я с удовольствием хлебнул с ложки, что протянула мне Тоня, горчайшее лекарство и разулыбался, словно малыш, которому дали любимейшее лакомство.
— Да неужели это правда, Тоня?
— Правда, правда, только успокойтесь…
— Теперь ты, Тоня, богатый человек! Древние иконы очень дорого ценятся. Кучу денег тебе пришлют!
Тоню не обрадовали мои слова. Лицо ее было задумчивым, озабоченным.
— Не возьму я никаких денег.
— Почему? — искренне удивился я. — Не краденые…
— Не краденые, да и не честные…
— Это почему же не честные? Все знают, как ты гнула горб на Чуклаева. Этот бессердечный человек выгнал тебя, иконой расплатился. Ты вправе продать ее, выкинуть — все, что хочешь!
— Да как же я могу? Ведь пока у Чуклаевых жила, я на нее… молилась.
— Ох, беда большая! — рассмеялся я. — А теперь ведь… не молишься? Нет?
— Нет, — прикусила губу Тоня.
Но я видел, что не молитва, а что-то другое, более серьезное, сдерживало ее, омрачало радость.
И Тоня решилась, сказала, как в ледяную воду