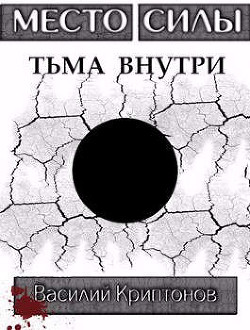в дом. Пусть это будет мне вместо прогулки».
Вдруг слышу смутные голоса. Все громче и громче они. «Да это же у нас в доме! Может, Тоня, с кем-то беседует? Ох, что-то не похоже это на мирную беседу».
«Погубил ты мою душу!» — плача, выкрикивает женский голос.
«Может, радио это?»
«Уходи ты, Христа ради! Вот-вот хозяева придут!..»
«Какое радио? Это же Тоня!»
«Перестань ныть: „Хозяева, хозяева!..“» — мужской голос раздражен, хрипл. Он показался хорошо знакомым, но вспомнить, кому принадлежит, я не мог.
«Для тебя они никто, а ко мне как к родной отнеслись…»
«Да ну!»
«Человеком я себя здесь почувствовала, а не приживалкой…»
«Хватит! Слышали! О деле надо говорить, а не слюни распускать».
«Да это же Чуклаев! И как он здесь очутился? Ведь он же клялся, что навсегда покинул наше село. И что ему нужно от Тони?»
Мне хотелось, как в юности, пружиной вскочить с места, распахнуть дверь и вышвырнуть из своего дома этого мерзавца. Без слов, без объяснений.
Но голова кружилась, ноги меня не держали. Только в сознании отчетливо записывался ненавистный вкрадчивый голос, уговаривающий женщину:
«В город тебя возьму. Настоящей барыней по нынешним временам сделаю. Работу свою бросишь, будешь по магазинам ходить, наряды выбирать… А что с твоего благоверного взять? Гнилые легкие ни один врач не вылечит. И моя тоже на ладан дышит, прости меня, шкабаваз [12]. Помрет, и, слово тебе даю, сразу же с тобой распишемся, чтобы все как у людей было…»
«Ох и подлец! Ох, подлец! Бедное мое сердце, ну сделай так, чтоб хоть на несколько минут вернулись ко мне силы! Я должен, должен выкинуть этого паука из своего дома. И почему Тоня позволяет ему говорить такие слова? Почему не прогонит?»
Чуклаев вновь заговорил, но тише и невнятнее. Может, отошел в глубь комнаты или отвернулся от двери.
И снова долетел голос Тони:
«О том, что было, эзнай, забудь. Я теперь не та — другая!»
«Э-эзнай-а-й! Давно ли Петрушей звала? И на прощанье приласкать не хочешь. А я-то к тебе столько верст добирался. Вот и денег принес, на всякий случай…»
«Нет, нет! Убери свои деньги. Убери! Мне от тебя ничего не надо. Уходи, эзнай, уходи. Прошу тебя!»
Слышать такое мне нестерпимо больно. Я медленно, собрав все силы, поднимаюсь на ватных ногах. Держась за стены, начинаю подвигаться к двери. А с каждым мгновением приближающиеся голоса разрывают мне душу.
«Бери, глупая… Здесь же целая сотня. Пальто себе к зиме справишь, белье купишь тонкое. Я ведь любя тебе даю их. Без задней мысли…»
«Нет, нет, не-е-ет!»
«А такую-то я тебя еще больше люблю!» — В комнате загремел опрокинутый стул. И тут же взвился умоляющий, испуганный Тонин голос:
«Пу-усти! Ты что-о, с ума сошел, эзнай? Пу-у-сти!»
Я рванул дверь, ввалился в избу, пытался было что-то крикнуть, но тут же рухнул без сознания.
Три недели провалялся я в больнице. Врач заявил: давно надо было проверить сердце и беречься, глядишь, дело до инфаркта и не дошло бы. Но, как говорят, что случилось — того не воротишь. Оставалось теперь вести себя смирно, выполнять все предписания врача.
Приходила утром и вечером каждого дня медсестра. Она чрезвычайно выразительно, хотя и одним кивком головы, приказывала мне перевернуться на живот. Каждый раз с внутренним протестом, хотя при одном ее появлении Тоня выскальзывала из комнаты по обнаруживавшимся внезапно делам, я безмолвно выполнял это приказание, по что-то новое в наших с Тоней отношениях незримо вырастало и крепло во время моей болезни. И справиться с этим я не в силах.
Не успевала за медсестрой захлопнуться дверь, я уже задыхался от желания видеть ее рядом, смотреть на тугой жгут волос, казавшийся тяжелым для тонкой шеи.
Клава, очевидно, замечала это мое нетерпеливое ожидание. Когда ей случалось в перерывах между уроками заскочить ко мне, проведать и сообщить последние школьные новости, когда вечерами, прикрыв газетой настольную лампу, чтоб свет не падал мне в глаза, она подолгу сидела рядом, проверяя тетради, иной раз я ловил ее взгляд, быстрый и тревожный. Но это с одинаковым успехом можно было отнести и к беспокойству за мое сердце.
Мне было стыдно лежать и думать о другой, когда без малого десять лет шагала по жизни со мной эта бескорыстная и преданная женщина. Ну разве это ее вина, что природа обделила ее таким женским обаянием, как у Тони? Разве она виновата в том, что истощение, болезни, пережитые в блокадном Ленинграде, лишили ее счастья материнства?
Я все понимал. И тем не менее мне лишь на минуту удавалось отогнать от себя другой образ, ставший родным, близким, притягательным до крайности, — я боялся, что, забывшись в полусне, могу шепнуть ее имя.
И еще я думал о своем нечаянном открытии — об иконе. Будучи в больнице, я спросил жену, нет ли письма из Москвы. Клава торопливо взглянула на врача и молча покачала головой.
Но на другой день с утра радостно сообщила:
— Успокойся, дорогой! Звонил Аким: говорит, отдал икону реставратору.
Не знаю, в какой форме она посвятила в «переговоры» с Акимом Тоню, но в сговор вступила и та.
— Ваш знакомый сказал Клавдии Лазаревне, чтоб вы, Иван Аркадьевич, не беспокоились. Мастера, которые ремонти… Ну, которые с иконой нашей возятся…
— Реставрируют?
— Вот-вот… Что под слоем, который вы хотели снять, снова икона — не очень старая по времени… И думать, мол, о ней… беспокоиться нечего.
Стоило Тоне споткнуться на слове «беспокоиться», как я понял уловку жены. Ей хочется оградить меня от волнения этаким образом: икона — пустяк и думать о ней не стоит. Но ведь и без Тониной наивной оплошности я понял: что-то тут не то. Что бы Аким стал мне названивать по телефону? Да ему для этого надо ехать на почтамт, отстаивать очередь, чтоб добиться звонка в наше захолустье. Да он вообще телефон терпеть не может, потому и домой не ставит. Значит, он давно прислал письмо, а они его мне не дают, что-то утаивают. Что ж? Будем действовать по-своему.
Лежу на высоких подушках и наблюдаю, как пришедшая с работы Тоня смахивает тряпкой пыль. Тоня уничтожала ее и вчера, и позавчера, и три дня назад. Просто не может она сидеть без дела. Или ищет занятие, когда наедине со мной? Вот она протерла книжный шкаф, стулья, телевизор, перешла к окнам.
В белой кофточке