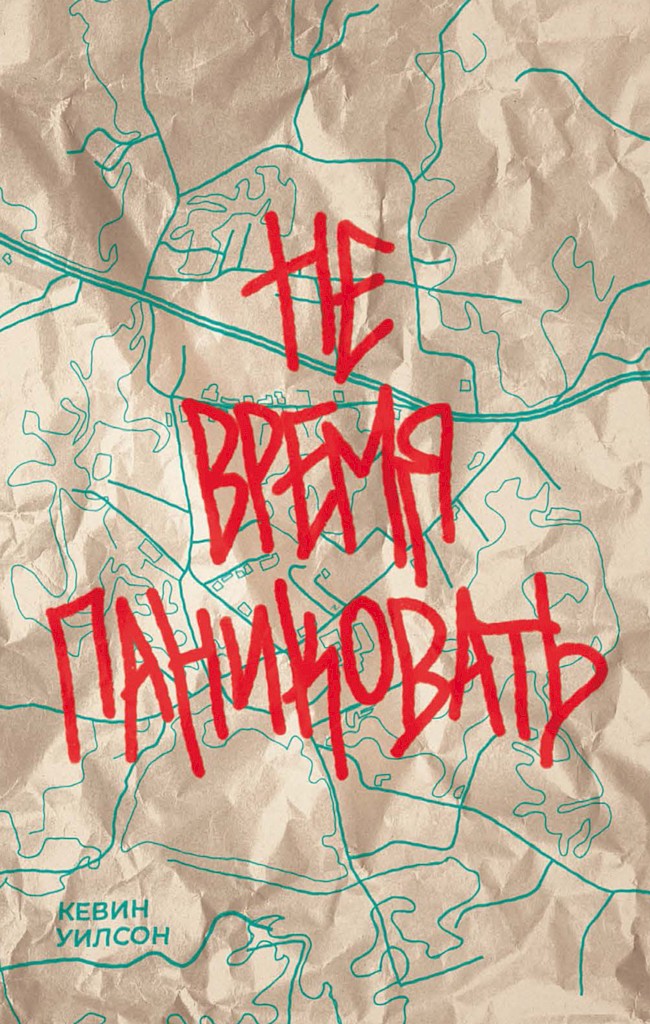разъехались, мама получила довольно теплое место в Транспортном департаменте штата Теннесси и принялась коллекционировать кроссовки — увлечение, которое она никогда не могла мне толком объяснить. «Правда они прекрасны?» — спрашивала она, держа в руках пару купленных на eBay мужских «Найки Терминатор», слишком больших, чтобы мама когда-нибудь смогла в них прогуляться. По ее словам, народ в городе, особенно подростки, всегда замечают ее кроссовки, и это повышает ее самооценку.
Мама помахала мне рукой, и я помахала в ответ. Я предупредила заранее, что приеду на несколько дней, чтобы поговорить о статье, которую обо мне пишут, и что журналисты, возможно, захотят пообщаться и с ней. «Отлично, буду ждать», — отреагировала мама, хотя и не вполне поняла, зачем для этого мне надо приезжать в Коулфилд. Однако возражать не стала. И я приехала.
Не то что бы я совсем не бывала в родном городе. Мы навещали маму не реже шести раз в год, а она приезжала в Кентукки навестить Джуни, когда выдавалось свободное время. Хобарт умер от инфаркта, когда мне было под тридцать; думаю, они с мамой по-настоящему любили друг друга, или, по крайней мере, мама любила Хобарта больше, чем когда-то любила моего отца. С недавних пор она начала встречаться с новым мужчиной, Хэнком, бывшим футбольным тренером в колледже, который был очень добр к моей матери и, несомненно, любил ее, однако вместе они не жили. На каждую нашу встречу Хэнк прихватывал сумку с моими книжками, чтобы я надписывала их в подарок разным его родственникам и друзьям, и за это он очень мне нравился.
— Заходи, солнышко, — приветствовала меня мама. — Есть кофе, сладкий чай и куча разных «Литл Дебби».
— Спасибо, мама, чуть попозже, — ответила я, и мы прошли в гостиную и сели.
— Ну, что случилось? Когда ты позвонила, я подумала, случилось что-то серьезное. Ты ведь давно не наведывалась сюда одна.
Меня трясло так, словно я теперь обречена всю оставшуюся жизнь выслеживать людей и открывать им свой секрет. Хотя нет, этим займется «Нью-Йоркер». То, что делаю я, было своего рода подарком самой себе — рассказывать тем, кого я люблю, подготавливать их, давать им время простить меня. После статьи всю оставшуюся жизнь, сталкиваясь со старыми знакомыми, мне придется наблюдать, как они молча оценивают, насколько сильно я выведена из равновесия нашей случайной встречей.
— Солнышко, все в порядке?
— Ты помнишь Панику? Одна журналистка собирает материал для статьи о ней.
— О господи, — сказала мама, теребя рукава спортивного костюма. — Ну и ну.
— И она обратилась ко мне.
— Обратилась к тебе? И больше ни к кому?
— Подозреваю, что еще ко многим. Но, — уточнила я, — главным образом она общается со мной.
— Ладно. Значит, она пишет про Панику. С тех пор, правда, прошло более двадцати лет, но ладно.
— А ко мне она обратилась потому, что именно я это сделала.
Правильнее было сразу в этом признаться. После того, как Аарон подумал, что я говорю о смерти его матери, стало понятно, что в данном вопросе лучше обходиться без долгих вступлений.
— Фрэнки, — сказала мама с затуманившимися от слез глазами.
— Постер сделала я. Я написала слова. Это я его придумала.
— Солнышко, — сказала мама, глядя на меня с такой глубокой печалью, словно зрелище моих страданий ей самой причиняло боль, и добавила: — Я это знала.
— И что теперь? — Я поняла, что ей не больно — ей неловко за меня.
— Фрэнки, я знаю. И тогда знала. Всегда знала. Ну, не с самого начала, но уже довольно давно.
— Да не могла ты знать! Ты и понятия не имела. Думала, что это тройняшки.
— Сперва, разумеется, да, но потом сообразила. В то лето ты вела себя крайне странно, причем еще до того, как попыталась покончить с собой в автомобильной…
— Вовсе я не…
— Пускай, но все равно ты была такой странной, еще более странной, чем обычно, и я все поняла. Котенок, ну как бы я могла этого не узнать? Конечно, это сделала ты.
— Прекрасно, именно об этом я тебе и говорю. Это сделала я.
— Знаю.
— Ох, мама…
— Ты и тот мальчик, в которого ты втюрилась. Его звали… Черт, вылетело из башки. Его мама играла на скрипке. Я училась с ней в школе. Господи, как ее звали, я тоже не помню.
— Его звали Зеки, — сказала я. — Это сделали мы вдвоем.
— Да, я знаю.
Мне хотелось, чтобы мама перестала говорить «я знаю». Она устроила в моем мозгу настоящее короткое замыкание. Я готовилась раскрыть ей тайну, просить прощения за то, что не призналась раньше, и попытаться защитить ее от последствий. А получается, что это она, сидя на диване, ждала, пока я ее догоню.
— Солнышко, у нас в гараже стоял копировальный аппарат, — ласково пояснила мама, словно шестилетней.
— Но он же не работал, тройняшки его сломали.
— Знаю, именно поэтому до меня не сразу дошло. Но когда ситуация стала совсем серьезной, я стала регулярно проверять пачки копировальной бумаги, и ее всегда оказывалось меньше, чем в предыдущий раз.
— Я не знала, что ты вообще помнишь, что у нас был этот копир, — сказала я. — Мама, почему ты мне раньше об этом не говорила? Еще тем летом, после того как погибли люди? Почему ты не заставила меня остановиться?
— Ну, мне понадобилось некоторое время, чтобы додуматься, потому что ты сбила меня с толку, когда влюбилась первый раз в жизни, а потом было уже поздно — все страшные события уже произошли, тот мальчик уже упал с водокачки. И зачем, скажи на милость, мне было вешать на тебя вину за случившееся? Ты никогда об этом не говорила, поэтому и я молчала.
— Значит, все эти годы ты знала, — констатировала я.
— Солнышко, может, я что-нибудь и сказала бы, если бы увидела, что ты ломаешь себе жизнь. Если бы ты сама не смогла оправиться после того лета, я бы сказала тебе, что никакой твоей вины тут и в помине нет и то, что вы с Зеки создали, было прекрасно. Но ты вышла замуж, родила Джуни, твои книги печатают, ты успешна. Мне и нужды не было тебе об этом напоминать. А раз и ты ничего не говорила, я надеялась, что ты это или забыла, или оставила в прошлом.
— На самом деле я не оставила это в прошлом, — призналась я и заплакала. — Я думаю об этом каждый день. Я произношу это по три-четыре раза в день.
— Значит, ты жива. Ты создала это. И все хорошо, — сказала мама и тоже заплакала.
— А Хобарт