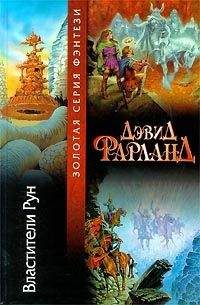Калинович не без волнения развернул свою повесть и начал как бы читать ее, ожидая, что не скажет ли ему половой что-нибудь про его произведение. Но тот, хоть и стоял перед ним навытяжку, но, кажется, более ожидал, что прикажут ему подать из съестного или хмельного.
- Книжка-то нова, не растрепана, - проговорил Калинович с едва скрываемою горькою улыбкою.
- Да ведь-с это тоже как... - отвечал половой, - иную, боже упаси, как истреплют, а другая так почесть новая и останется... Вот за нынешний год три этакие книжки сподряд почесть что и не требовала совсем публика.
Калинович только вздохнул: три эти книжки были именно те, где была напечатана его повесть.
Уязвленный простодушными ответами полового, он перешел в следующую комнату и, к большому своему удовольствию, увидал там, хоть и не очень короткого, но все-таки знакомого ему человека, некоего г-на Чиркина, который лет уже пятнадцать постоянно присутствовал в этом заведении. В настоящую минуту он ел свиные котлеты и запивал их кислыми щами.
Калинович решился подойти к нему и напомнить о себе.
- А ну вот! Здравствуйте, - произнес тот тоном вовсе небольшого уважения.
Несмотря на это, Калинович подсел к нему.
- Что вас давно не видать? - спросил Чиркин, как будто бы не видал его всего только каких-нибудь месяца три.
- Я жил в провинции года с полтора.
- А, вот что, - произнес и на это Чиркин совершенно равнодушно.
- Сделался литератором и еду теперь в Питер, - добавил с улыбкою Калинович.
- Вот как! - сказал Чиркин, и опять самым равнодушнейшим тоном.
Калинович только из приличия просидел еще несколько минут с подобным невежей и отошел от него, а потом и совсем вышел из трактира. Он решился походить по Москве, чтобы предаться личным и историческим воспоминаниям. Прежде всего он подошел к университету и остановился перед старым зданием. Вот и крыльцо, на котором он некогда стоял, ожидая с замирающим сердцем поступительного экзамена, перешел потом к новому университету, взглянул на боковые окна, где когда-то слушал энциклопедию законоведения, узнал, наконец, тротуарный столбик, за который, выбежав, как полоумный, с последнего выпускного экзамена, запнулся и упал. Все это припомнилось и узналось, но и только! От университета прошел он в Кремль, миновал, сняв шапку, Спасские ворота, взглянул на живописно расположенное Замоскворечье, посмотрел на Ивана Великого, который как будто бы побелел. По-прежнему шла от него высокая решетка, большой колокол и царь-пушка тоже стояли на прежних местах, и все это - увы! - очень мало заняло моего героя. С какими-то беспорядочными мыслями возвратился он в свой нумер, который показался ему еще грязней, еще гаже. Из соседней комнаты слышались охриплые пьяные голоса мужчин и взвизги тоже, должно быть, пьяных женщин. Свободная, кочующая жизнь холостяка, к которой Калинович стремился, с такой болью отрывая себя от связывающей его женщины, показалась ему отвратительна. Не зная, как провести вечер, он решился съездить еще к одному своему знакомому, который, бог его знает, где служил, в думе ли, в сенате ли секретарем, но только имел свой дом, жену, очень добрую женщину, которая сама всегда разливала чай, и разливала его очень вкусно, всегда сама делала ботвинью и салат, тоже очень вкусно. Бывши студентом, Калинович каждое воскресенье ходил к ним обедать, но зачем он это делал - и сам, кажется, хорошенько того не знал, да вряд ли и хозяева то ведали. Все времяпрепровождение его в этом доме состояло в том, что он с полуулыбкою выслушивал хозяйку, когда она рассказывала и показывала ему, какой кушак вышила отцу Николаю и какие воздухи хочет вышить для церкви Благовещенья. С мужем он больше спорил и все почти об одном и том же предмете: тому очень нравилась, как и капитану, "История 12-го года" Данилевского, а Калинович говорил, что это даже и не история; и к этим-то простым людям герой мой решился теперь съездить, чтобы хоть там пощекотать свое литературное самолюбие. Он нашел тот же совершенно домик, только краска на нем немного полиняла, - ту же дверь в лакейскую, то же зальцо, и только горничная другая вышла к нему навстречу.
- Что, дома? - спросил он.
- Пожалуйте, барин наверху-с, - отвечала та, почему-то шепотом и тихонько повела его по знакомой ему лестнице. В комнате направо он увидел самого хозяина, сидевшего за столом, в халате, с обрюзглым лицом и с заплаканными глазами.
- Ах, боже мой! Давно ли? - проговорил он и постарался даже улыбнуться.
- Вы нездоровы? - спросил его Калинович.
- Жены лишился, - отвечал старик, и по его толстым, отвислым щекам потекли слезы.
- Скажите! - произнес Калинович тоном глубокого сожаления, а сам с собой подумал: "Зачем меня нелегкая дернула ехать к этому старью?"
- Давно постигло вас это несчастье? - спросил он вслух.
- Девятый день сегодня. Собачка заперта или нет? - обратился хозяин слабым голосом к вошедшей горничной.
- Заперта-с, - отвечала и та тоже слабым голосом. - Священники пришли-с, - доложила она в заключение.
- Хорошо... Приготовляйте там, - отвечал вдовец. - Панихиду сейчас будут служить! - прибавил он.
"Ну уж на это-то ты меня не подденешь", - подумал про себя Калинович и встал.
- Не смею более беспокоить, - проговорил он.
- Благодарю вас, благодарю, - отвечал хозяин, крепко, крепко пожимая его руку и с полными слез глазами.
- В этой проклятой Москве все или умерло, или замирает! - проговорил Калинович, выйдя на улицу. И на другой день часу в десятом он был уже в вокзале железной дороги и в ожидании звонка сидел на диване; но и посреди великолепной залы, в которой ходила, хлопотала, смеялась и говорила оживленная толпа, в воображении его неотвязчиво рисовался маленький домик, с оклеенною гостиной, и в ней скучающий старик, в очках, в демикотоновом сюртуке, а у окна угрюмый, но добродушный капитан, с своей трубочкой, и, наконец, она с выражением отчаяния и тоски в опухнувших от слез глазах.
- Monsieur, будьте такой добрый, поберегите мой сак! - раздался около него женский голос с иностранным акцентом.
Калинович взмахнул глазами: перед ним стояла молоденькая, стройная дама, в белой атласной шляпке, в перетянутом черном шелковом платье и накинутой на плечи турецкой шали. Маленькими ручками в свежих французских перчатках держала она огромный мешок. Калинович поспешил его принять у ней.
- Ou est се Gabriel?* Несносный! - проговорила дама и скрылась.
______________
* Где этот Габриэль? (франц.).
Через несколько минут Калинович увидел, что она ходила по зале под руку с одутловатым, толстым гусарским офицером, что-то много ему говорила, по временам улыбалась и кидала лукавые взгляды. На все это тот отвечал ей самодовольной улыбкой.
Звонок пробил.
- Adieu, mon Gabriel!* - воскликнула дама каким-то комически-печальным тоном, протягивая гусару руку.
______________
* Прощай, мой Габриэль! (франц.).
- Adieu, - отвечал тот сиповатым голосом.
Дама подошла к Калиновичу. Тот встал и взял ее мешок.
- Bien merci! - поблагодарила она и мило улыбнулась.
- Vous avez deja un cavalier!* - проговорил им вслед гусар.
______________
* У вас уже есть кавалер! (франц.).
- Oui, - отвечала дама, проворно уходя.
Калинович молча следовал за ней. В вагоне она начала распоряжаться как дома. Положив рядом с собой мешок и проговоря севшему напротив Калиновичу: "Pardon, monsieur, permettez"*, - протянула свои очень красивые ножки на диван, причем обнаружила щегольски сшитые ботинки и даже часть белых, как снег, чулок. Когда поезд тронулся, Калинович внимательно вгляделся на свою спутницу. Оказалось, что она была с каким-то идеальным выражением в лице; голубые глаза ее были томны и влажны, ресницы длинны. Сквозь белую нежную кожу просвечивались синенькие жилочки; губки были полные, розовые и с постоянной улыбкой. Заметив пристальные взоры на себя своего соседа, дама в свою очередь сначала улыбнулась, а потом начала то потуплять глаза, то смотреть в окно. Станции через две ей наскучил этот немой разговор.
______________
* Простите, сударь, позвольте (франц.).
- Вы Петербурге живете? - спросила она.
- Да, - отвечал Калинович, не желая сказаться провинциалом. - А вы? прибавил он.
- Петербурге... Там весело...
- Весело?
- Да, балы... маскарад... итальянская опера я бываю.
При этих словах Калиновичу невольно вспомнилась Настенька, обреченная жить в глуши и во всю жизнь, может быть, не увидающая ни балов, ни театров. Ему стало невыносимо жаль бедной девушки, так что он задумался и замолчал.
- О, какой вы скучный! Для чего? - проговорила спутница.
Калиновичу захотелось пококетничать.
- Я потерял мою невесту, - отвечал он, взглянув на подаренное ему Настенькой в последний день кольцо.
- А! Вы любили? - произнесла соседка протяжно. - И я любила, прибавила она и позевнула.
Калинович посмотрел на нее.
- А теперь вы любите? - спросил он.
- Теперь? Не знаю... Нет!
- Кто же вас провожал?
- А! Вот вы что думаете! Нет, это мой брат, - отвечала дама и лукаво засмеялась. - Князя Хилова вы знаете Петербурге? - прибавила она.