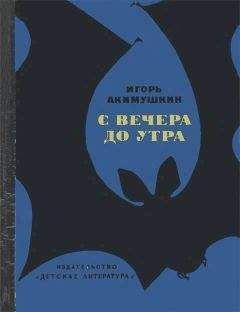камушек. Я обернулся на звук и увидел седого мужчину в белом плаще, имеющим узкие плечи и невысокий рост. Вначале я подумал, что это писатель, но, приглядевшись, понял, что седой мужчина писателем не был. Он стоял на противоположной стороне улицы и смотрел пристально на меня. Голова его казалась седой в огнях прачечной, рядом с которой он стоял, но потом я все-таки понял – он был пострижен в ноль. Его лысина удачно бы подошла какой-нибудь газете в заголовки на место буквы «О», такая вот была у него лысина. Он смотрел и смотрел на меня, а после поднял правую руку и показал мне манящий жест указательным пальцем, затем приложил палец к губам, сунул руки в карманы плаща и неспешно двинулся за угол прачечной.
Признаться, мне было скучно той весной, и, нечего делать, я бросился в наивность и вышел из ресторана. Обыватели такому дерзкому событию ахнули, но было уже поздно, и я начинал стремительно мокнуть. В спешке я завернул за угол, в котором скрылся лысый мужчина минутой ранее, и увидел его спину, медленно двигающуюся по пустому тротуару. Дождь образовывал невероятный пологий туман, от которого было видно лишь пару метров от себя, но мужчина, будто зная об этом, шел на самой границе моего обзора, а я шел за ним, подражая его походке. Теперь уже понятно, почему дождь был сильным и мокрым, густым, беспросветно черным настолько, что аж свет кое-как пробирался через его панцирь.
Последнее слово, последнее издыхание дождя было настолько искренним и горьким, что, теперь я понимаю, нужно было крикнуть в след его последним каплям, не ждущим своей участи и очереди, «Прощайте! Прощайте!». Женщины бы плакали, пытаясь продлить его жизнь своими слезами, дети бы подскакивали и махали белыми платочками. В кинотеатрах бы прошли последние минуты немых мюзиклов. Певица бы допела последнюю партию, например, о том, как Джон, такой негодник, умудрился взять Париж. Взять Париж!
Подумать только! Вот так хотелось проводить дождь. Может быть, еще парад устроить в его честь и устраивать парад каждый год, как раз через неделю после парада Победы на войне вышло бы. Эх. А ведь дождь все шел тогда, а я шел за лысым мужиком, который тоже шел и, наверняка, ругал неприступность и расхлябанность дождя. Тем не менее, он свернул направо и пропал в единственном трехэтажном павильоне города. Я никогда не знал, что происходило в том павильоне, да и вывески всегда погружали в разумные раздумья, от которых тошнило, да и толком ничего не было понятно. Как один мюзикл про бродяг, ведущих осмысленные ими же пошлые диалоги с проститутками. В павильоне было темно, пахло жженой травой и стало светло, после того, как звякнул рубильник. Перед моим взором раскрылось широкое белое льняное полотно, высотой на все три этажа, по которому растекались разноцветные ручейки, принимающие свою окраску от маленьких баночек, закрепленных вверху полотна, ближе к открытой дыре потолка, от которой несло прохладой и дождем… и дождем. Разноцветные ручейки на огромнейшем полотне развивались в стороны, какие были им угодны, раз, за разом образовывая то ветви, то полушария и отчетливые фигуры. Все вместе это вырисовывалось в некий натюрморт на фоне пейзажа. По-другому и не скажешь.
Сбоку ко мне подошел лысый мужчина и прошептал в пространство павильона: – Не правда ли, это прекрасно?
– Да, – ответил я с ноткой детского восторга в голосе. – Это превосходно.
В ту ночь над городом кружили два или три бомбардировщика. Их гулкий ропот, соизмеримый лишь с тихим и спокойным звуком сверчков летом августа усиливался шелестом падающей и разлетающейся от слабого ночного ветра бумаги.
Сирены не включали, дабы не разбудить спящих микробов.
Герман стоял у окна спальни, слушал дыхание жены, неплохо спящей на кровати, смотрел в окно и смотрел на шелест тысяч падающих листовок, сбрасываемых с бомбардировщиков. Он пытался представить, как выглядят самолеты, издающие за облачной темнотой столь глухой и протяжный звук. Листовки осыпали августовскую ночь белейшим сияющим снегом, и на момент казалось, что и фонари уже никуда не годятся.
Герман прошел на цыпочках по паркету, ковру, паркету, дошел до кухни, и откупорил новую бутылку виски. По крыше дома стучали шелестом фунты и тонны бумаги. Убавленное на ночь радио молчало диктором, а иногда диктором бубнило. – Они позвали диктора в ночной эфир… – прошептал Герман, допил виски, что оставался в стакане с палец, и вернулся в спальню.
Его жена Анна проснулась и стояла у окна, наблюдая за спокойно сыплющимися листовками, спокойно осыпающимися листовками на сугробы абсолютно таких же, белоснежных, листовок.
– Прямо как снег, – прошептала Анна, услышав скрип паркета мужем. Прошептала, будто боялась потревожить сей погодный сектор-шанс.
Герман раскрыл шкаф и вытащил свою постиранную и пахнущую ароматным мылом форму микробной армии.
– Поеду в штаб.
Анна дышала
– … узнаю в чем там дело.
Анна все еще дышала. Незаметно и осторожно. Вдох-выдох.
Одевшись и выпрямившись, Герман подошел к жене сзади и поцеловал ее в шею, надеясь, на прощанье.
– Почему люди такие плохие… – прошептала она.
Герман подумал о том, что, должно быть, у жены сейчас выступят слезы. Со свежим представлением по мотивам Шекспира.
– Что, если сегодня химикаты доберутся до нашего города? – продолжала Анна.-
Не доберутся. Анна, ты же знаешь, мы глубоко под ободком.
– Опять не повезет побережью… Нужно было привезти сюда родителей. Я тебя просила об этом еще в прошлом месяце, почему ты их не привез, ведь я же просила, а ты меня не послушал…
– Анна, твои родители погибли еще в прошлую атаку.
– Не хочу потерять тебя.
– Не потеряешь.
– Не потеряю?
– Не потеряешь.
Герман еще раз поцеловал ее и направился к выходу.
Дверь поддавалась с трудом. Герману пришлось помочь себе коленом для того, чтобы оттолкнуть от порога тонны сугробов бумаги. -Сколько же у них там листовок? – ворчал он, поглядывая в небо. Небо отвечало темнотой, мягким жужжанием и снегом. Герман смирился с тем, что это все- таки был снег.
Из-за бумажных завалов на дороге образовались пробки на много миль вперед. Микробы спешили эвакуироваться, возможно, съездить и собрать родных по окрестностям, забраться в подвалы и сидеть. И сидеть.
Герману несколько раз приходилось включать мигалку, чтобы протиснуться сквозь заторы, и через полчаса он был уже на месте. – Приветствую, полковник! – отрапортовала вахтерша при входе в штаб. Герман кивнул ей и прошел по длинному коридору до конца, а затем проникнул в большую правую дверь. Над овальным столом