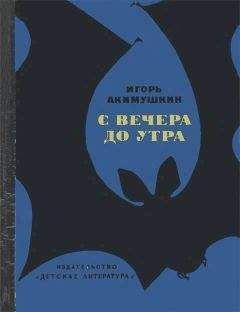нависли и смотрели на стратегические карты генерал Макдональд, усатый пожилой гражданин с сигарой в зубах и усердным смирением в глазах, по его правую руку стояли два майора-близнеца Сифилисовски – Марк и Песок – оба рыжие и с вельветом в пирсинге у уха. Остальных Герман не знал, или не узнавал, но они были довольно слушающими генерала полковниками.
А генерал говорил: говорил и курил: курил и, в общем:
– Радисты из центра сообщили, что Антоновы купили новое моющее средство. Братья майоры шушукались. Герман стоял за ними и смотрел на карту. Левый фланг керамического фронта «Север», на границе которого находился его город, был закрашен красным маркером.
Он задумался и очнулся от дум тогда, когда генерал потряс его за плечо. Генерал смотрел на него и смолил свою сигару, а Герман смотрел на сигару и пытался поймать носом весь дым, исходивший от нее, а генерал смотрел и смолил, и смолил и смотрел. Да.
– Отрядам дельте, гамме, омеге и той буковки с закорючкой, но не сигме, предстоит вывести из левого фланга все население, проживающее там. Я даю вам, полковник, три часа на это действие. Через три часа начнется химическая атака. Код коричневый.
Герман кивнул. Близнецы-майоры шушукались.
Сто пятнадцать микробов ожидали Германа у входа в штаб. Он всматривался в их лица и видел страх, и видел сон, и видел напряжение. Страх за близких, сон за сны, напряжение измерялось в вольтах.
Все поле, которое пересекали микробы и Герман было усыпано листовками, принесенными ветром из городов. Герман чуял финал и быструю кончину. Это огромное поле выводило его из себя, но он старался держаться изо всех сил, чтобы не запаниковать и не передать панику солдатам. Как бы то ни было, Герман знал, что они все погибнут.
И они все погибли. Радисты ошиблись.
Не прошло и часа, как Герман услышал падающие самолеты, будто спичкой подожгли сверчков. Он знал, что это слышала Анна, и он так хотел снова к ней прижаться и почувствовать ее дыхание, ее биение сердца и скрип тормозов; от звука падающих самолетов Герман расплакался и упал оземь, на листовки, на поле.
Солдаты тоже расплакались. Сотня микробов валялась на поле и ревела, листовки намокали. Герман и успокоился и поднялся на ноги, и посмотрел на небо. Через красные глаза он увидел, как небо стало зеленоватым. Он слышал всхлипывания солдат, он слышал, как они начинали кашлять.
А яд опускался на толпу ревущих и кашляющих мужиков все ниже, подобно листовкам усыпающим город.
Герман стоял и собственными глазами видел, как солдаты задыхались, разлагались и образовывали много слизи и пота, и все это смешивалось с намокшей от слез бумагой и превращалось в кашу из пота, слизи и слез, и бумаги.
Умерла Омега, Дельта и Гамма разложились опосля. А буковка с закорючкой стала самой стойкой, но таки тоже скончалась.
Герман сгорбился; он устал и потер глаза, а потом развернулся и пошел к окончанию поля, к лесу, шлепая и увязая ботинками в каше, в чуде, в компоте.
Его фигура плавно удалялась вон.
Вскоре он услышал шум надвигающейся волны. Это был смыв. Без особого интереса, Герман лег, схватился за керамическую траву всей оставшейся силой и стиснул зубы. Вся вонь и гадость останков солдат и листовок вместе с водой пронеслась по нему. А потом стало совсем тихо. Герман поднялся и начал рассматривать себя, он наблюдал, как с его формы падают капли воды. Капли падали и исчезали, и вместе с каплями исчезала чья-то жизнь на побережье ли, где-нибудь ли еще. Герман встряхнулся и посмотрел на небо. Все такое же темное, проворное дно. Он нащупал в кармане служебный пистолет, рассмотрел его как следует, потер в мокрых местах, и, честно сказать, ничего от такой влажной уборки не изменилось.
Он наставил пистолет на висок и почувствовал дулом, как пульсирует кровь в вене. Он закрыл глаза и старался ни о чем не думать. Он думал о том, что ни о чем не думает и ему становилось от этого легче. Герман нажал на курок. Осечка. Правильно, вода все испортила. С каждой секундной появлялся повод подумать. Герман улыбнулся и бросил пистолет. Он еще раз посмотрел на небо, а потом снова посмотрел на брошенный пистолет. И тогда Герман зажмурил глаза. И стоял вот так с зажмуренными сильно-сильно глазами посреди чистого от смыва поля.
И он решил, что никогда, ни при каких условиях, открывать глаза не будет.
Покинутый. Мне нравилось называть этот взгляд, это лицо, покинутым. В нем отсутствовали эмоции. Отсутствовали чувства. Отсутствовал и так же, как и во всем теле. Не сказать, что это лицо удавалось скорчить так уж легко. Проще всего использовать что-то не требующее сил и сноровки, например, хмурое лицо – что может быть проще? Хмурое лицо как точка вместо знака вопроса, как гнилая октябрьская земля. Хмурое лицо передается подобно зевоте с человека на человека.
А этот пустой, отрешенный от мира, покинутый взгляд. Все мысли, чувства, голоса и эмоции ушли в академический отпуск на неопределенный срок. Широко раскрытые глаза, но никакого удивления. Правое веко чуть сдвинуто вниз. Губы плавно прижаты друг к другу как во время знойной жажды. Лоб собран в одну извилистую морщину. В зрачках прекращается показ личности, показ характера и вовсе человека. Все это вместе образует бессмысленность и в то же время удивительную способность уходить от мира на некоторое время. Не помню, сколько времени прошло с тех пор, как я потерял такую способность. Видимо, потеря памяти лишь побочный эффект. А в прошлом, в «тех порах», я мог часами корчить эту рожу, и все ощущение реальности пропадало, будто реальности никогда и не случалось. Ходил я медленно. Все мышцы и конечности поддавались памятным рефлексам, другими словами, все движение проходило на автопилоте. Иногда я наблюдал за автопилотом. Организм жил своей независимой жизнью, совсем без моего участия. Организм выбирал книгу на «почитать». Организм выбирал фильм на «посмотреть». Он выбирал маршрут прогулки (обычно это была одинокая редкая тропинка в городском бору, иногда организм останавливался возле ярко-зеленой, отличной своей свежестью от других, ели на некрупной полянке и пребывал возле ели по несколько часов кряду)
Нуждаясь в естественных желаниях, организм лотереей выбирал еду, место сна, вид физической нагрузки, женщин. Смотреть на выбор организма было, по крайней мере, увлекательно. А не вмешиваться в действия автопилотирования было