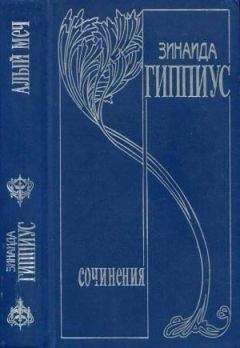– Прекрасно, – перебила меня Вера. – До тебя мне дела мало. Но ты сказал: детство. Если это – для детей (пусть будет по-твоему!), то почему же ты мешаешь детям, – настоящим, которым нужна эта пища, чтобы расти, – приходить туда? Разве это не насилие? Если мы имеем хоть малое что-нибудь, хоть самое крошечное – почему же мы откажем в этом ребенку? Зарони в него искру – она, может быть, и разгорится. А насильственная темнота, на которую ты обрекаешь моего мальчика…
– Он и мой, Вера, не забывай, и не старайся, пожалуйста, меня поймать женскими уловками. Разубеждать меня в чем-либо тоже напрасно. Ты отлично поняла, что я сказал; а затем – кончим, пожалуйста, этот тяжелый разговор.
Может быть, я был жесток. Тут еще Клавдия вмешалась:
– Что вам, Вера Ивановна? Поступит мальчик в гимназию, всему вовремя научится. Развивать же его болезненную впечатлительность, влиять на его фантазию, при его нервности – это значит подготовить ему незавидную будущность. Я уверена, что брат положит этому конец.
Никогда я не видал Веру Ивановну в таком состоянии! Она вскочила, вся бледная, почти страшная. Хотела говорить – и задыхалась.
– Вы… вы… мало вам, что вы меня погубили… Вы и ребенка моего хотите обездолить… Все, что в детстве дорого… От чего потом и человеком живым можно остаться… Заранее ему жилы перегрызаете… О, безбожники, безбожники!
Я взял ее за руку, крепко.
– Успокойся, Вера, опомнись! – сказал я почти строго. – Есть всему свои пределы.
Она вырвала руку, повернулась ко мне и заговорила быстро, почти умоляя:
– Скажи, Ваня, ведь ты пошутил? Ну, не понимаешь сам, – но ведь ты мне веришь же сколько-нибудь? Веришь, что я Андрюше худа не пожелаю? Не будешь мне приказывать, о чем говорить с ним, о чем нет? Ведь ты знаешь меня, разве я была ханжой? Или нечестной, лицемерной? Ваня, Ваня, ты прости меня, если я за себя говорила, сердилась на тебя… Что я! Теперь я об Андрюше, оставь его мне, Ваня!
Не могу вам передать, как мне ее было жаль. Но и страшно стало за ребенка при виде ее исступленности, и я понял, что не могу, не имею права ей именно теперь в чем-либо уступить. Я опять взял ее за руку, еще крепче, и сказал, даже без дрожи в голосе:
– Убеждения мои, Вера, неизменны. Помни, что Андрюша и мой сын. И я не имею никакого человеческого права оставить его на волю такой взбалмошной и ненормальной женщины, как ты… как бы я тебя ни любил. Слышишь?
Она даже не вырвала руки. Подняла на меня глаза и затихла. Я уже думал – обошлось, опомнилась немного. Нет, засмеялась как-то жестко и быстро вышла из комнаты.
На другой день она Андрюшу в церковь не повела, но потом вскоре Клавдия мне сказала, что она все-таки хочет поставить на своем, и я утром должен был чуть не силой удержать их на пороге. Началась у нас такая жизнь, которой не опишешь, да и долго было бы и тяжело описывать. Под конец даже при ребенке стали повторяться безобразные сцены. Я принужден был ей сказать, что я отдам Андрюшу из дома, если она не усмирится. Клавдия выхлопотала разрешение открыть в нашем городке нечто вроде детского сада, школу такую, и уж присмотрела помещение. Впоследствии я думал действительно отдать туда Андрюшу, но пока хотел только припугнуть Веру. Да и действительно, так жить было нельзя. Все мы извелись, Андрюша каждый день плакал.
Вера слушала меня спокойно.
– Да, говорит, пора это кончить. Так нельзя. Я устала. Тихо пошла в спальню и легла. С того дня – ни звука от нее, бывало, не добьешься. Зовет ее Андрюша – она точно не слышит.
– Вера, говорю, да поди же к нему!
– Зачем? Я сама вижу, я ему вредна.
Шуму не было больше в доме – но от этого стало не легче, а точно тяжелее. Ребенок плачет, ходит бледный, больной.
– Мама умирает, маму полечить.
Потом стало казаться, по привычке, что все вошло в колею – но какая уж это была колея! Вера лежит до вечера, точно все думает о чем-то. Я, хоть и мало, все-таки надеялся, что она одумается. А не одумается, тогда… что «тогда» – я и сам не знал. Все мы извелись, Клавдия пожелтела. Андрюша каждую ночь метался. И характер у него стал портиться. Такая, знаете, атмосфера, – точно покойник в доме.
Сидим мы раз вечером с Клавдией в гостиной, при одной свече, молчим. Часами так просиживали. Вдруг дверь скрипнула – Вера.
Я удивился. Посмотрел на нее – опять молчу.
Она села рядом со мною, к столу. Как изменилась! На десять лет постарела, и взгляд нехороший.
– Здорова ли ты, Верочка? – спрашиваю. Невольно спросил, увидав ее такой.
– Не очень. Клавдия вмешалась:
– Вам бы полечиться, Вера Ивановна, на кумыс, что ли, летом съездить.
И сказала, я убежден, с добрым сердцем. А Вера вдруг на нее по-прежнему:
– Молчите, вы!
Клавдия, чтобы не связываться, глаза на работу опустила и только проворчала сквозь зубы:
– Сумасшедшая!
Я надеялся, что Вера не услышит – но она услыхала и вдруг точно обрадовалась и заговорила скоро, оживленно:
– Да, да, я сумасшедшая… То есть нет, не сумасшедшая, а так, нервы у меня очень расстроены… Не правда ли, Ваня?
– Верочка, ты успокойся.
– Я спокойна теперь, но я больна. Я чувствую, что я больна. Не могу владеть собой. Я бы хотела полечиться. За тем и пришла, чтобы сказать тебе.
– Что ж, хочешь, сейчас за Федором Ивановичем пошлем?
– Нет, что ты! Я бы хотела к специалисту, в губернский город. Вот, к Лазаревскому…
– К Лазаревскому? Да разве он… по нервным болезням?
– Ну да, психиатр. Ведь у него клиника своя. Там же и другие. Я бы хотела к ним.
– Да что же с тобой, Вера?
У меня какой-то страх к ней явился.
– Я больна, право. Свези меня завтра, Иван Васильевич. Мне отдохнуть надо, полечиться.
Я, знаете, засмеялся, хотя вовсе не хотелось смеяться.
– Что это ты, в сумасшедший дом захотела?
Шучу, а она так серьезно, так просительно на меня посмотрела и тихо говорит:
– Очень прошу тебя, Ваня, свези меня к докторам. Если и придется там пожить – мне спокойнее будет. Надо же мне куда-нибудь уехать, а куда?
И что вы думаете? Тихими речами уговорила-таки меня повезти ее на другой день в губернский город. Я, конечно, ни секунды тогда не сомневался, что никто ее не оставит в лечебнице, потому что она совершенно была здоровая; а думал – проедемся, доктора режим какой-нибудь назначат, мало ли… Даже рад был. С Андрюшей она безучастно простилась, точно мертвая. Ненадолго прощалась, – а все-таки это меня изумило. С Клавдией вовсе не простилась, Клавдии это было даже неприятно.
Всю дорогу молчала, как я ни старался ее разговорить. Приехали уже ночью, она устала. Остановились в гостинице. На другой день повез я ее. Не один доктор осматривал, – трое. Расспрашивают – она молчит! Упорно так, я даже удивился. Со мной она все-таки, хоть мало, но еще утром разговаривала. Стали меня спрашивать – что я могу сказать? Говорю – жаловалась на нервное расстройство. Стали щупать ее – она закричала, и все-таки ни слова.
Один увел меня в другую комнату, опять спрашивает, были ли припадки? Какие припадки? Не было, говорю.
– А как же вы ее привезли?
– Так и привез. Сама захотела.
Опять принялся меня расспрашивать. Я, знаете, вообще не красноречив, а тут у меня совсем язык прильнул к гортани. Начну говорить – сам вижу, что совершенно без толку, не могу объяснить ни какого рода болезнь, ни причины, ни когда началась и в чем проявилась. Не рассказывать же им было день за днем всю жизнь, как вам, вот, я рассказал! Да их с научной точки зрения и это <5ы, вероятно, не удовлетворило.
Опять позвали меня в первую комнату. Вера стоит у окна, ко мне спиной, без шляпы. Доктор, который с ней был, говорит, чрезвычайно ласково:
– Вот Вера Ивановна согласилась у нас пожить, полечиться. Не правда ли?
Вера отвечает, не оборачиваясь:
– Да, я останусь.
Я было рот раскрыл, но меня тотчас же увели прочь. Не раздражайте, говорят, больную, так хорошо все обошлось.
Я было к ним с расспросами – они мне целую кучу вещей наговорили: и то у ней явно, и это определено, и здесь чувствительность, говорят о припадках… Я просто смешался, потерялся. Спрашиваю: когда же выздоровеет? Они опять, и зрачки-то у нее расширены, и еще что-то ненормально… Пока, мол, ничего нельзя сказать, увидим, улучшение может наступить или быстро, или более медленно.
Уж не помню, как я договорился насчет комнаты для нее и всего другого. Признаюсь, ужасной это было мне неожиданностью. Доктора считали, что я просто убит горем, не могли же они, конечно, догадаться, что я, везя больную в психиатрическую лечебницу, никак не ожидал, что ее там примут. Говорили много сочувственного, слегка обнадежили. Поздравляли, что так спокойно обошлось. Очень любезные люди.
Хотел проститься – не позволили.
Да-с; так вот так я ее и оставил. Ехал назад из губернского города домой, – дорогой немножко пришел в себя, одумался. Конечно, я не медик: к тому же Вера была у меня все время на глазах; мне трудно было уследить, как зародилась и как развилась болезнь. Глаз специалиста тотчас же видит все признаки. Лечение, наконец, даже известный режим – кроме пользы, ничего не принесут расшатанному, больному организму…