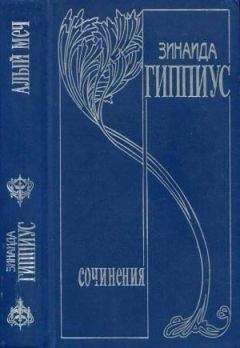Приятель мой занят был усиленным разговором со своей левой соседкой, моя соседка справа тоже говорила не со мной; я очутился один в шумящей толпе, которая смеялась и радовалась без меня. Я был рад молчать. Можно было смотреть. И я смотрел. И я смотрел на цепь лиц против меня. Начал справа. Одно, другое, третье… Когда быстро переводишь глаза с одного человека на другого, то кажется, что это все одно и то же лицо так странно меняется, потому что – хотя лица и разные – есть между ними всегда неприятное и несомненное сходство…
Четыре, пять, шесть… И вдруг глаза мои остановились. Я уже почти дошел до левого конца стола, и женщина, на лице которой неожиданно остановились мои глаза, сидела от меня наискосок, влево, почти около хозяев. Букет увядающих бледных роз чуть-чуть заслонял ее от меня, но, наклонив немного голову, я мог ее видеть всю. Не удивляйтесь, что я помню такие подробности: встреть я завтра того же Lebrun, и даже не постаревшим, – я бы его не узнал. А женщину – я думаю – и вы бы узнали, если бы могли увидеть после моего рассказа.
Описать ее черты легко, и в них не было ничего замечательного. Красива, бледна, спокойна. Кажется, молода – вероятно, нет и тридцати. Брови ровные-ровные, тонкие, круглые, как на всех старинных портретах. Темные, без всякого блеска, волосы, не очень пышные, мягко приникающие к щекам. Вот и все. Черное платье, со странным, очень низким и очень узким вырезом, полоска белой кожи, идущая вниз. Глаз я даже и не видал еще, она их опустила. И молчала, как я.
Вот она заговорила. Улыбнулась. Рот очень маленький, алый; тесные зубы. Красива. Молода. Довольно обыкновенно красива, и мне даже не очень нравится. Не восхищение, не удовольствие и не отвращение она подняла в моей душе, а ужас. Тот ужас – необъясненный никем, злостный, черный страх, который все мы испытали… хотя бы в детстве, ночью, одни, в темноте. Этот страх отличен от всех других уже тем, что он – половинчатый, и вторая половина его – восторг, точно такой же злостный, черный и несравнимый ни с каким восторгом, как и ужас с другими ужасами.
Но я был не ребенок и невольно начал рассуждать: что же в ней, собственно, ужасного? Обыкновенна. Красива. Молода-Молода! Вот оно. Вот где. Несомненно молода. Тридцати нет. Двадцать семь… двадцать восемь.
Как бы не так! Двадцать семь – и пятьдесят, восемьдесят, сто двадцать – нет, двести, триста, – не знаю – ей тысяча лет! И все-таки несомненно, что ей не больше двадцати восьми.
Я обернулся к моему приятелю:
– Послушайте, на одну минуту: кто эта дама, около Эльдона, влево?
Lebrun, оторванный от разговора, взглянул на меня рассеянно и поспешно:
– Которая? В розовом?
– Нет, нет, еще левее, в черном. Как ее имя?
– Ах, эта! Ее имя? Ее зовут графиня Ивонна де Сюзор.
– А граф, ее муж, он здесь? Который?
Приятель, уже опять отвернувшийся было от меня, удивленно сказал:
– Ее муж? Она не замужем. Она дочь покойного графа де Сюзор, того самого…
И он окончательно меня покинул, уверенный, что удовлетворил мое любопытство.
Но я больше не спрашивал. Я опять смотрел на графиню, и в эту минуту она подняла глаза. Какие ошеломляющие, неприятные глаза! Бледные-бледные, большие, может быть, синеватые, может быть, сероватые – не знаю, только очень бледные, сквозные, точно из цветного хрусталя, и старые. Мертвые. И все-таки это были молодые и живые глаза.
По глазам ее я понял, что ошибся, впал в невольное, почти поэтическое преувеличение, когда говорил себе, что ей – «триста, пятьсот, тысяча лет»!
Нет. Тысяча – это почти вечность для нас. Вечное – никогда не старо. А графиня, при ее молодости и красоте, была именно стара той старостью, человеческой дряхлостью, около которой совсем близко, рядом – стоит человеческая смерть.
Я увидел, что бледные глаза остановились на мне. Взор был совершенно спокоен, но не безразличен и как будто не случаен даже. Она смотрела на меня, точно давно меня знала, но не радуется и не удивляется встрече. Точно так и нужно, чтобы я смотрел до невежливости упорным, неотрывным взором в ее – бесспорно прекрасное, бесспорно молодое лицо. Lebrun на этот раз сам обратился ко мне и заставил меня опустить наконец глаза.
– Вы спрашивали меня о графине? Неправда ли, очень интересное лицо? Хотя есть что-то… и отталкивающее. Вы не находите?
Я подумал, что он ничего не понимает и не поймет, а потому сказал уклончиво:
– Пожалуй…
– Да, прелестная девушка и милый товарищ, хотя должен сказать, что я не горячий поклонник ее произведений. Есть манера, есть школа, есть, если хотите, что-то своеобразное, но…
– Позвольте, какие произведения?
– Да ее картины, parbleu! Разве я вам не сказал, что она – художник? В последнем Салоне была ее картина и несколько этюдов. Она очень известна. Вы, наверно, заметили. Рэ. Рэ!
Рэ! Так это она подписывает свои холсты двумя нескромными буквами? Так это – Рэ? Не могу сказать, чтобы от такого открытия что-нибудь для меня стало яснее. Напротив, спуталось и усложнилось. Как не знать Рэ? О Рэ говорили. Говорили, что картины ее «производят тяжелое впечатление» – это все поняли, то есть так поняли. А я ничего не понял. Отошел, помню, с сумбуром – даже не в голове, а во всем моем существе. Я тотчас же припомнил ее «Костер», который видел в прошлом году. Описывать картин нельзя, да и не нужно. И то, что в «Костре» смутило меня – совсем уж не покорно словам. В словах оно слишком обычно. Хорошо написано, кажется. Темнота. Большой огонь посередине. Слева полуголая старуха – и справа такая же. От одной как-то видна тень, и кажется, что три старухи, причем одна – огромная. Вот и все. В старухах – костяная неподвижность, земляная тяжесть. Третья, теневая – огромная, но легкая. Вот и все. Смысла никакого – да Бог их знает, эти картинные смыслы! Но очень помнится и мутит душу.
Тянулся, тянулся обед… Lebrun стал болтать со мной, опять перешел к Рэ, видя, что я опять на нее смотрю, и сказал:
– Когда этот чудак, отец графини, умер… Я перебил его:
– О графе я ничего не слыхал.
– Неужели? А я думал, что слышали. Судьба графини замечательна. Сюзор, миллионер и затворник, шестнадцать-лет не считал ее своей дочерью. Она жила почти в нищете, с полусумасшедшей матерью, урывками училась, бегала в Лувр и в рисовальную школу… И вдруг все изменилось: отец взял ее к себе, ее и мать, которая, впрочем, скоро умерла, окружил царской роскошью: лучшие учителя, путешествия, свобода и его любовь, потому что он, говорят, умер у нее на руках и в последнее время не допускал к себе никого, кроме дочери.
– А теперь?
– Теперь она живет совершенно одна, в своем… чуть не дворце. Не затворницей, конечно, но около того.
– И не вышла замуж?
– Que voulez vous? Une artiste!..[11] – с необычайной легкостью равнодушного суждения ответил мой приятель, и больше мы о графине не говорили.
Но только что кончился этот длиннейший обед, как я, без всякого предварительного решения, стал пробираться между гостями, направляясь к этой женщине. Мне даже не пришло почему-то в голову попросить Lebrun меня представить.
III
Вблизи она была точно такою же, как издали. Только я увидел, что она – среднего роста и худощава, и платье у нее очень длинное. Она стояла ко мне спиной, у рояля (мы перешли в гостиную) и разговаривала с каким-то стариком. Но едва я приблизился – она обернулась и, к удивлению моему, подала мне руку, опять как старому знакомцу, и сказала:
– Bonjour. M-r Politoff?[12]
Старик тотчас же отошел. Я одного не мог понять: неужели только я в ней вижу то, что вижу, а другие ничего? Впрочем, быть может, они привыкли, примирились с ней. А ведь даже легкий Lebrun сказал, говоря о ней: «Etrange figure[13]. В ней точно нет жизни». Глупо, пошло, но с его точки зрения… пожалуй и так.
Я заметил вблизи, что она очень свежа, нежной свежестью бледных женщин. Она была моложе, чем я думал. Лет двадцать пять…
Что сказать ей? Она смотрела на меня в упор своими бледными, сквозными, точно пустыми глазами, восьмидесятилетними и прелестными, чуть-чуть улыбаясь.
Что сказать? Я хотел выдумать возможное, заговорить об ее картинах, что ли, – и вдруг проговорил почти невозможное:
– Вы мне кажетесь очень странной. Она по-прежнему глядела спокойно.
– Вы, конечно, отдаете себе отчет, почему я вам кажусь странной.
Голос у нее был тихий, даже глуховатый – и молодой, говор медлительный. Она произнесла свои слова отнюдь не в виде вопроса. В самом голосе было что-то тихо утвердительное, точно он и не мог бы подняться выше – для вопроса.
– Немного отдаю отчет, – сказал я, стараясь невольно быть точным. – Но не вполне. В душе много смутного.
– Да. Вполне и невозможно. Но в возможном вы правы. Вы мне очень нравитесь. Вы глубоки.
– Но вы мне не нравитесь! – воскликнул я, точно помимо моей воли. – То есть и страшно нравитесь, и страшно не нравитесь! И восторг – и ужас! Это необъяснимо…