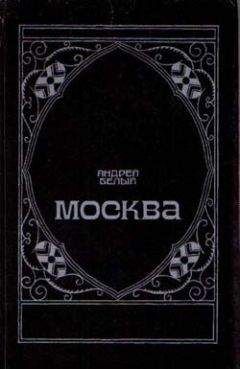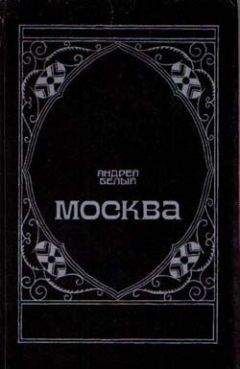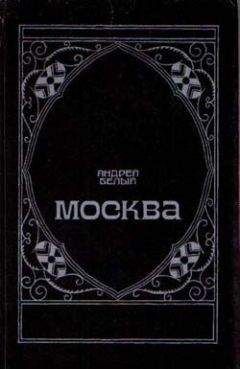— Павко[96] — давит мух.
И понесся летком в тепелке налетевшем, рванувши белье на веревках; столб пыли — за ним; был — во всюдах: Пар-фен Переулкин, Ивавина, Пэс, Твердисвечкин, Сергей Свистолазов, Денис Котлубанин, — с ним вместе.
Затылки чесали на дворике:
— Ясный донос!
— Кто бы мог?
— Не попакин ли?
— Он — и не нашинский; он — и не вашинский.
— Пашинский он: Пашин-прачкин.
— Его бы и сфукнуть.
А Грибиков кушал грибочки; и — охал, должно быть, от боли: на дворик — не шел; занавесил окошко; стал — шамой; стал — бабой.
Рвалась паутина над злой моркотой переулочной.
Фольговой Тихон Задонский — облещивал: венчиком; Грибиков зло одеяло откинул:
— Мой чашки!
— Поставь самовар! Переклейные стены отвесили задрани.
— Не шабалдашничай!
— Гнид не дави.
Потащился по комнате чортовой курицей — в тени: изъянить лицом; сел — на кованец, в угол: выглядывать в кухоньку, взором следя, чтоб хозяйство держалось в исправности карликом Яшей, который треньбренькал лоханями грязными, или, раструживая свою руку, приклепистый гвоздь забивал, или громко лучиной дрежжал, или, в угол забившись, в дыре носовой ковырялся спринцовкою.
Дни-денски слышалось:
— Живо!
— Не спи!
— Не скули!
— Не вихляйся!
Висел над ним Грибиков, дергаясь грызиной:
— Чорта пусти себе в дом, — так не вышибешь лбом.
И куриною лапою скреб безволосье, роташку поджавши, в подшипниках серых.
— Живешь — шаром-даром. Попреком укалывал.
— Деньги — плачу.
— А чьи деньги?
— Не ваши!
На это — не знал, что ответить (действительно, карлик исправно платил); и, схватясь за спадавший подштанник, некстати язвил он:
— На шее-то — жабры.
Не жабры, а — железы шейные: вспухли!
— Вздул жабры!
Как будто со зла это карлик вздул жабры: болезнь раздувала.
— Ты чашку смотри не разбей: я целкач заплатил.
— Разобью, — заплачу.
— Какой ферт: деньги счетом, не чохом даются. Таскался за карликом.
— Я — не чихаю…
— Еще бы чихал: небось — нечем чихать… Возьми швабру…
А то, отозвав к подоконнику, где в паутине повесился жирный паук, заставлял с ним играть в свои козыри, чтобы обыгрывать; если увидит мастичную карту у карлика, то — гонит в кухню; а сам принимается в тенях изъянить лицом, фукать в руки, на палец смотреть, его нюхать.
Честит Вишнякова:
— Чего финтифантит!
— Зафокусил!
— С чортом дерется за грешников!..
— Тьфу.
— Вот как черти его, щелкоперенку этого, проволокут кочергами…
— Лоскутник!
Раз карлик обиделся:
— Что вам такого лоскутник наделал? Он мухи не тронет.
— Чаи мои пьет!
— Вы же сами поите его.
За глаза — то и ce: а завидит под окнами юрк Вишнякова, — так:
— Ставь самовар.
— За баранками сбегай-ка!
Сообразивши все это, построгает пальцем подпёк бородавки, на палец посмотрит, понюхает палец; и — лезет в постель: шебуршать с простыней.
К Вишнякову нельзя подойти со словесными едами: шею протянет; и — бросится, точно гусак, — под животики — ижицей, ликом своим — продрежжать вразумительно: и — оставалось: подслушивать около двери — о чем бишь.
О жизни полезной.
Притом: видно сразу, что — швец очень дельный; словами строчит, точно шапкой двоих накрывает; за словом не лезет: словами, как спичкою, — шаркнет, чиркает.
Свет высекается!
Этот тщедушный уродец, бывало, появится, юркая вздергом горба; и — картузик долой; кресты — в угол: Задонскому; прыгает глазками:
— Силе Мосеичу, яко достойному…
Два свои пальца — в кармашечек: за табаковкою:
— Честь и хваление. Нюхает, сделавшись морщиком:
— Пчх.
— Будьте здоровы.
— Спасибо!
И нос очищает платком своим красным; а «ижицу» — прямо в живот: с табаковкой:
— Чихните-с!
Прочоха — дождется: с прочохом — поздравит. Потом уж затворятся. Грибиков — к двери:
— Не пейте, — отеческим голосом громко дрежжит Вишняков.
— Этим чортовым зельем спалите утробу.
На блюдечко дуются губы, означив над скулами всосы:
— Бог шлет вам деньжат, — ерзнет задом — чорт — дырку.
И чешет по воздуху отеческим голосом:
— В чортову дырку деньжата профукнете. Будто читает Псалтирь.
И — просунется Грибиков:
— Верно!
На карлу рукой гребанет:
— Ты-то!
Жалится едко на карлика:
— Якает целыми днями про нос. И — под двери.
Портной заюрзикает задом; глазами добреет:
— Про нос вы оставьте, пожалуйста: зря… Оно — верно: со свищиком ходите.
Дует на блюдце.
— Кого чорт рогами под бок, — чашку донышком вверх, — не пырял?
И на блюдце поставит.
— А нос, — ну, конечно: пером его тронешь, — щекотно: а вы, можно прямо заметить, бабацали носом по жизни; и вы же остались без носа…
Юродит словами с болезненным, строгим лицом:
— А вы так не горюйте: кто — ходит без носа, кому — послан горбик.
Задумается:
— Еще хуже пред райскою дверью при носе остаться! Моргнет:
— Коль душа уцелела, так нос еще вырастет, может, с аршин у нее: во какой!
Он покажет рукой.
— Вы без носа, а «о н»? — без души.
— Это кто же за «он»? — беспокоится Грибиков.
— Он потащил вас на дело — срамное, кровавое; руки в крови у «него»: вы ж болезнью своей мыли кровь… Даже, можно заметить, — душа у вас есть… Кто же с прибылью?
Дернет рукою шпинечек бородавки:
— Я так полагаю, что — вы!
— Не пойму я, — о чем они это, — понюхает Грибиков. Пахнет придухою, кашей, портным.
— Что ж, — без носа… Носами не всем щеголять: — неприятно и сухо дрежжит Вишняков, — щегольство одолело: а вошка — рвет рот свой, до правого уха — заела!
Не выдержит Грибиков: сунется:
— Ты — поучись у него: это — правильно. Схватится он за подштанники:
— Вошка — заела: за-ее-ла! Грозит двумя пальцами.
Веяло летними цветнями: дул тепелок: блекотала листва; завихорились пыли и прахи; подбросились ветки, подбросились листья; над ними вдали — солносядь; накитаяло Небо: кенаровым цветом и тихостью синей; означились грусти; пробрызгались травы слезистым бериллом; жара оседала мутнеющим сгаром; пожухли окрестности: стены и крыши.
В открытом окошечке из самоварной трубы вылетали в нахмур красноглазые искры.
Окно распахнулося; в вечер уставились две головы: одна — черной наклейкой дыры носовой, а другая — шпинечком бородки: она показала до правого уха разорванный рот: и — дрежжала под облако:
Если так, смири волненья:
Сердца пыл и сердца глод…
Карлик «Яша» подтягивал:
Ты — у дьявола во власти!
Ты — погиб во цвете лет:
Человеческие страсти —
Бесполезный пустоцвет.
Зрей, как для употребленья
В огороде корнеплод.
Голосами слилися: под облаком:
Будь зерном цветов нежнейших,
Жив — землей, росой — омыт:
От твоих плодов дальнейших
Будет с пользой кто-то сыт.
* * *
— Негодяи!
— Поют…
— Этот Яшка, — со сватом…
— К княжне, стал быть, сватают.
— Тоже, — нашла…
— Женишишечка!
* * *
Всем оказывая помощь,
Удаляйся ты от зла, —
Поливаемая овощь
Для небесного стола.
Как иной какой кузнечик,
С пользой сев на огурец, —
Будешь милый человечек:
Не какой-нибудь шельмец.
И окошечко захлопнулось: медистым вечером; звездочка, ясочка, теплилась, точно в зыбели младенец; подпахивал ямник.
Когда уже смерклось, из желтого домика вышел портной Вишняков: — и пополз в переулок; казалось, — ползет по земле: а живот провисал между ног: и под небо взлетела ужасная задница.
Голову гордо закинув, пошел вдоль заборов.
Увидевши это явленье природы-насмешницы, можно бы было, пожалуй, упасть на карачки с тоски за судьбу человека: но, поговорив с получасик с «явленьем» — отнюдь не кунсткамеры, — и веселей, и бодрее глядели на жизнь, потому что с достоинством, с грацией даже портной Вишняков через жизнь проносил подпрыг зада.
Сперва — ужасались.
Потом — удивлялись.
Уже лиловатого вечера грусть означалась над крышами зеленорогой луной — со звездой впереди, с ослепительным, с белым Юпитером; дом черноокими окнами молча вгляделся во все, заливаясь слезами оконного отблеска; загрозорело: деревья, дичая нашоптом, бессмыслились; пагубо-родное что-то закрыло луну черно-желто-зеленою лапою; вспыхом шатнуло деревья; и тьма зашаталася: падая, выбросились за фасадом фасад, треснув черными окнами, черным подъездом, подъездным уродом, с пропученным зонтиком. И поднеслась на мгновение белая плоскость стены с четко черченым черным изломом под небо взлетевшего зада: судьба человека, которого мучила жизнь.