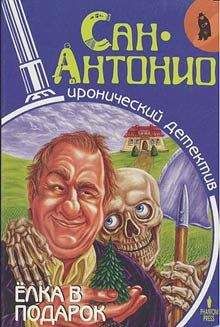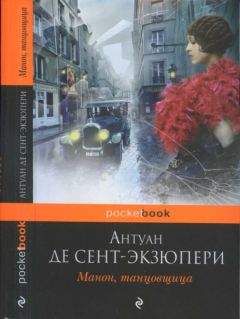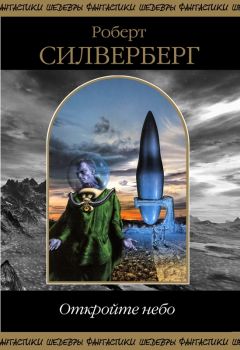Ему радостно видеть свой рассказ на журнальных страницах, и собственное имя, набранное типографским шрифтом, согревает душу, даже если и на одну минуту. Но тут же приходит грусть: эта вещь окончена, он уже не может сжать пальцами эту глину и придать ей форму, она уже не принадлежит пальцам горшечника, как выросший ребенок, который уже не поместится у родителей на руках.
Один механик из тех, кто работает с ним в бригаде, подсаживается к нему в столовой. Мадам Маркес ставит на стол фаянсовую супницу, аромат куриного бульона наполняет комнату, и вокруг становится теплее и уютнее. В столовую скромно входит человек и желает постояльцам доброго вечера. На нем кожаная куртка с пятнами влаги на плечах, с ним ворвался холод высоких облаков.
– Он в Аликанте летает, – шепчет ему на ухо товарищ. – Говорят, это самый надежный летчик на «Линиях».
– Как сегодня леталось, месье Гийоме?
Тот на полдороге останавливает дымящуюся ложку, поднимает глаза и вежливо улыбается. И снова принимается за еду.
Вопроса никто не повторяет. Он уже им ответил: все хорошо, из предусмотренного графика на перевалочных пунктах не выбились, что тут еще скажешь? И если мокрые пятна на его куртке – следы потоков воды, лившихся на него над Барселоной, и если над Пиренеями у него леденело дыхание, и если мотор кашлял часами, то все это не имеет никакого значения.
На следующее утро, рано, еще в темноте, Тони садится в трамвай, что идет в Монтодран. За ним в трамвай садится Гийоме.
– Сегодня опять ваш вылет, месье Гийоме?
– Да всего лишь до Барселоны.
– Всего лишь! Вы так говорите, будто речь идет о прогулке.
– Можно и так сказать.
– Но ведь нужно над Пиренеями лететь…
Летчик нетерпеливо смотрит на часы и хмурит брови. Полет над Пиренеями его не волнует, а вот что его действительно волнует, так это поездка до аэродрома в этом трамвае, который ползет так медленно, что того и гляди заснет на рельсах.
– А вы пилот? – спрашивает его Гийоме.
– По документам пилот, но сейчас всего лишь помощник механика.
– Не переживайте. Все мы через это прошли в этой компании. Это методы такие у Дора. Будет и у вас шанс.
– Вы думаете?
– Уверен. Но, что правда, то правда, шанс у вас будет всего один. Не упустите его. Дора справедлив, но безжалостен.
Есть в Гийоме что-то, что ему нравится. Быть может, мальчишеская улыбка.
Глава 27. Касабланка – Дакар, 1926 год
Возвращение в пустыню для Мермоза как возвращение домой. График полетов – один раз в неделю – дарит ему свободные дни и возможность прожить их вместе с другими летчиками. Касабланка покорена авиаторами-почтовиками, которым, похоже, страх неведом. Самые зачуханные забегаловки брызжут искрами радости, когда туда заваливаются молодые пилоты, жаждущие пива и развлечений после трехдневного перелета. Вместе с ними приходит яркий свет пустыни и неутолимая жажда.
Но порой бьющая ключом жизнь города – это всего лишь маска для давящего безмолвия неба и притаившейся в засаде гибели. Для тоски перелета над враждебными песками, где ждут своего часа остро наточенные кинжалы, жаждущие перерезать глотку тем неверным, что осмелились вторгнуться в земли бедуинов.
Сейчас один из тех перелетов, когда мотор начинает дымиться, и Мермоз вынужден сесть, уже за Кап-Джуби посреди пустыни. И когда вскоре к севшему самолету верхом на верблюдах подъезжает группа мужчин, он радостно машет им рукой. Откровенно не понимая, почему лицо его переводчика, знающего в действительности не более дюжины французских слов, становится белее мела.
Приближаются к ним «синие» люди со старенькими ружьями и вековечными глазами. Мермоз хочет заставить переводчика заговорить, но тот падает ниц и только лепечет что-то по-арабски, захлебываясь в рыданиях. Нет никакой нужды владеть иностранными языками, чтобы понять, что тот молит о милосердии. Берберы спускаются с верблюдов и охаживают переводчика ногами по ребрам. Потом идут к Мермозу и бьют его прикладом ружья прямо в лицо. Он пытается устоять на ногах под градом ударов, но все же его заваливают на песок. Пинки и еще пинки, похожие на лягающие копыта. И снова удары. Потом свет в его глазах меркнет и все исчезает.
Когда сознание к нему возвращается, он со связанными сзади руками переброшен через спину верблюда, как тюк. Приходит ощущение засохшей кровавой корки, закупорившей нос, и забитого песком рта. И слышится стон – это все, на что способно в данный момент его тело. Люди пустыни поворачивают на этот звук головы, и, судя по всему, их предводитель жестом велит им остановиться и произносит несколько слов, которые для пленника звучат шелестом песчаной бури.
Один из мужчин подходит. На голове – синий тюрбан, лицо закрыто до самого носа. Глаза его подведены черным, и в других обстоятельствах Мермоз оценил бы их красоту. Ему хотелось бы иметь возможность объяснить, почему он оказался здесь, на их земле, рассказать, кто он такой. Но ни Мермоз не способен говорить, ни тот его слов не поймет. Неудержимая, миллионы лет существующая страсть мужчин к войне не позволяет им сесть и выслушать друг друга. Они оба любят пустыню, но не умеют об этом говорить.
Туарег подносит к его губам маленькую полую тыкву с солено-горькой водой и дает выпить несколько капель. Только в этот момент Мермоз понимает, что его не убьют, и им овладевает абсурдное чувство благодарности к этим людям с подведенными глазами, которые его избили и похитили.
Уже в сумерках они добираются до лагеря – грязных матерчатых палаток