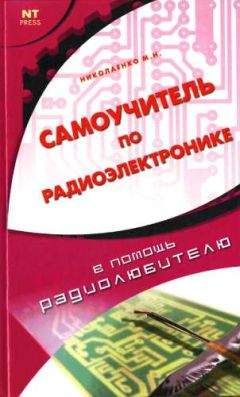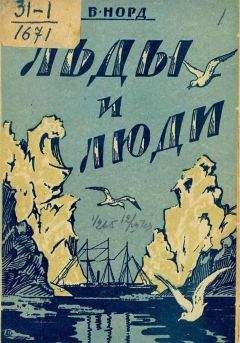страшную тайну, он, скорее всего, не решился бы открыться жене. А укусить жену тайно и вовсе было выше его представления. Жену укусить было невозможно, немыслимо…
Ужасно…
Он очень ее любил.
Кредитный инспектор налил, чокнулся с графином и выпил.
Быть разоблаченным – вот чего боялся несчастный Лютиков. Он боялся быть разоблаченным, да, но больше всего несчастный Лютиков боялся за сына. И лишь полуденный свет разливался по выходным над дворовой песочницей, бессмертный отец, намазанный солнцезащитным кремом, как торт глазурью, самоотверженно щурился в светонепроницаемые очки, холодея от ужаса, когда тень строящего куличики сына растворялась в смертоносном зените. И лишь тогда, когда тень малыша вновь проявлялась на асфальте, счастливый отец переводил дух и выдыхал с облегчением…
Кредитный инспектор налил, чокнулся с графином и выпил.
Да… он ел кошек. Ел крыс… Он был бессмертен, но! Но попробуйте-ка сами есть крыс и кошек, даже ради бессмертия, – как вам такое понравится? Все бессмертие есть крыс с кошками отвратительно. Их даже без всякого бессмертия есть противно…
Кредитный инспектор налил, чокнулся с графином и выпил.
Однажды ночью несчастный Лютиков обнаружил себя распахнувшим пасть над горлом спящей супруги…
Кредитный инспектор вздрогнул, налил, чокнулся с графином и выпил.
Однажды несчастный Антон Николаевич обнаружил себя с распахнутой пастью в комнате тещи…
Кредитный инспектор вздрогнул, налил, чокнулся с графином и выпил.
Именно после этого ужаса, этого кошмара…
Кредитный инспектор налил, чокнулся с графином и выпил.
…Когда теща проснулась, увидела Лютикова и закричала, обреченный на вечную жизнь инспектор пошел на речку и голыми руками, обжигаясь о кору, попытался вытащить из земли осиновый ствол, чтобы навсегда покончить с проклятьем наследственного бессмертия… Но ствол не поддался усилиям, а супруга после долго лечила царапины мужа антимикробной мазью.
Лютиков налил и выпил не чокаясь.
В тот страшный день, ближе к ночи, когда все семейство вернулось с дачи, кредитный инспектор поцеловал сына, тихонечко выбрался из квартиры, поднялся на лифте на шестнадцатый этаж, вышел на чердак и, ни секунды не раздумывая, бросился с крыши.
Это не помогло.
Но удалось поймать в мусорном контейнере крысу и, съев ее впопыхах и с жадностью, прямо там, в контейнере, среди мусорных очисток и прочей дряни, мешая на щеках крысиные останки со слезами отчаянья, Лютиков вынужден был смириться.
Главное теперь было не упустить сына, и Лютиков с нежностью, страхом и надеждой неусыпно следил за подрастающим малышом. Тот безмятежно и с аппетитом кушал яблочное пюре, жужжал машинками, качался на качелях, собирал пирамидки и слушал по вечерам Чуковского…
Кредитный инспектор налил, чокнулся с графином и выпил. Выпил и, опустив руку в карман черного дождевого плаща, висевшего на спинке стула, положил на стол две серебряных пули.
Но вчера все изменилось.
Пули холодно сверкнули под лампой. Кредитный инспектор усмехнулся. Страшной была усмешка Лютикова, смертоносные резцы торчали из воспаленных десен, как сабли…
Кредитный инспектор налил и выпил не чокаясь.
Вчера несчастный отец с ужасом заметил, как потускнела и сократилась на кухонном полу тень нежно любимого младенца. Это был конец. Вернее, это было только начало.
Лютиков решил, что с тенью ему померещилось. Но сын во время вечернего умывания не отразился в зеркале.
И тогда нежно любящий отец утешил себя какими-то глупостями. Однако, когда укладывал сына спать (кредитный инспектор сам укладывал сына и читал ему перед сном Чуковского с Пушкиным)… Малыш взял да и тяпнул папу за палец.
Лютиков вздрогнул и прикрыл пули ладонью. Их было две: одна – для него, а вторая…
В общем, что тут говорить? Сами всё отлично понимаете.
Кредитный инспектор налил.
Меж тем напротив него, улыбаясь немолодыми зубами, уселся плотный человек с подбритым затылком. Человек этот был одет в красный свитер до горла, сверху свитера была зеленая дрянная куртка. То был Грымов – их общий с супругой знакомый.
«Отвратителен как всегда», – с отвращением подумал Лютиков и налил подсевшему.
– Здорово, Тоха! – грохотнул Грымов и, нахально подцепив на чужую вилку чужой лепесток говяжьего языка, выпил и закусил.
– И тебе не хворать, – процедил сквозь зубы Лютиков, сжимая в мигом вспотевшей ладони серебряные пули.
– Что звал? – чавкая языком, поинтересовался подсевший.
Кредитный инспектор не отвечал, пристально целя гипнотическими зрачками в лоб Грымову.
– Так что? – чавкнул тот и вдруг перестал жевать и замер, не донеся второй рюмки до рта.
– Скажи мне правду, Грымов… – прошипел вампир, – чей Леха сын, твой или мой? – Голос бессмертного сделался похожим на шелест колец удава. Грымов застыл, не в силах отвести от вурдалака глаз. – Говори, скотина… – прошипел кредитный инспектор.
– Да ладно те, Антоха, твой, мой, какая к чертям разница?! Я ж не претендую…
– Говори… – снова прошелестел кредитный инспектор.
– Ок, лады, ты сам напросился, Тоха… Ну были дела, елки… мой баклан… И чё эт меняет? – нагло отвечал загипнотизированный.
– А это, Грымов, меняет все, – отвечал кредитный инспектор и, улыбаясь во все клыки, совершенно забыв про пародонтоз, пошел прочь от стола с подсевшим, на выходе из закусочной с облегчением выкинув серебряные пули в мусорную корзину.
– Вы уверены, – говорит, – гражданин, что вы именно в этом подъезде живете?
– Нет, – говорю. – С вами, женщина, я уже сомневаюсь, что вообще на белом свете живу…
Ф.М. Булкин
Было где-то за полночь, но это утвержденье примерное, потому что в приемном отделении Третьей градской часы хотя и висят над плакатом с инструкцией об оказании первой помощи, да давно не ходят, и все это знают. А с другими часами никто не сверился, потому что и без того было некогда, гололед, и многие поступали в эту ночь сюда с травмами.
Человек же без паспорта пришел сюда сам, на своих двоих и по собственному желанию, что, как известно, большая редкость при обращении в медицинские и прочие государственные бесплатные органы, поскольку это, как тоже всем известно, всегда выходит себе дороже.
И тем не менее человек без паспорта пришел сюда сам и, видимо, обождав, пока охранник отвлечется на разговор с гардеробщицей, или как-то иначе прошел себе спокойненько в общий коридор, уселся с краю от всех доставленных с улицы на отдельный стульчик, спросил, кто последний, и занял очередь.
Он сидел очень тихо, уложив пальто свое на колени, сняв не в гардеробе его, как положено, поскольку миновал регистратуру больничную нелегально.
Прием велся в сплошной поток, в очень напряженном режиме, поскольку власти, как ни стараются, не справляются не только с внешней и