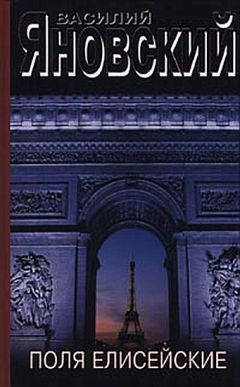В конце двадцатых годов, в самом начале 30-х, "Кочевье" Слонима процветало. Там по четвергам, в кафе против вокзала Монпарнас, собиралась почти "вся" литература. В России тогда гремели Бабель, Олеша, ранние Зощенко, Леонов, Катаев... Советскую словесность можно было принимать всерьез... Чем и занимался охотно Слоним. Но когда "гайки" были окончательно завинчены первой пятилеткой, говорить больше не о чем стало (в смысле искусства). Мы это сразу поняли; все, за исключением Слонима, человека самонадеянного и самоуверенного. И "Кочевье", захирев, протянуло ноги.
Все в Слониме было провинциально и второклассно. По любому трудному вопросу он сразу находил окончательное решение - только слегка споткнувшись... Выражал свое мнение, не догадываясь даже, что оно может оказаться глупым или преступным. Есть такая порода русских первых учеников.
На его примере я впервые понял, насколько восточный "второй" класс ниже западноевропей-ского. Сравнивать сверхкласс или "первый" класс бессмысленно. Кто лучше: Толстой, Шекспир, Пруст, Дон Кихот, Давид Копперфильд... Анна Каренина, Мадам Бовари... Пушкин, Мицкевич, Шевченко... Чехов, Кафка... Все "лучше", ибо дух абсолютен, бесконечен.
Но "второй" класс можно и нужно сравнивать для измерения культуры народа. И насколько этот класс на западе от Рейна лучше и выше российского! Был, есть и еще долго останется таковым, независимо от всех космонавтов.
Главным поприщем Слонима являлась политика, не совсем чистая политика. Но он находил время, чтобы заниматься также искусством и, по-видимому, любил это трудное занятие. Причем не ограничивал себя пределами одной культуры. В самом деле, он знал толк и в французских шко-лах, и в итальянских романах, и в американских новеллах: для русского интеллигента, успешно боровшегося с царским режимом, нет и не может быть мещанских ограничений.
В "Кочевье" периода расцвета появлялась Цветаева. Мы все, разумеется, признавали огром-ный талант Марины Ивановны. Многие даже терпеливо переносили ее утомительную, трескучую прозу.
С годами дар и мастерство поэта развивались, но наше отношение к Цветаевой менялось к худшему. Неожиданно читатель, слушатель, поклонник просыпался утром с грустным убеждени-ем, что Цветаева все-таки не гений, а главное, что ей чего-то основного не хватает!
Я постепенно начал считать ее в каком-то плане дурехой, что многое объясняло. В молодости такого рода мнения создаются легко и беззаботно.
- Позерка, - испуганно глядя поверх очков, шептал Ремизов, особенно не любивший ее прозы и манеры декламации.
Существовало убеждение, что Ремизов "изумительно читает"; читал он не как писатель, автор, повинующийся внутреннему ритму, а как актер, использующий свою образцовую дикцию. Мне такая "игра" не нравится, и поэтому я отношусь с недоверием и к свидетельству других "очевидцев", восторгавшихся чтением Гоголя, Достоевского, Тургенева. О Толстом таких легенд нет.
Как собеседник Цветаева могла быть нестерпимой, даже грубой, обижаясь, однако, при любом проявлении невнимания к себе. В разговоре, вопреки всему фонетическому блеску, интересного или нового она сообщала мало. Да и то, что могло восприниматься как ценное - тайны поэтического ремесла... - терялось, потому что преподносилось с видом сугубой находки! С резким нажимом на все педали.
В общем, близоруко-гордая, была она исключительно одинока, даже для поэта в эмиграции! Кстати, от Гомера до Томаса Вулфа и Джойса, все в искусстве чувствовали себя уродливо отстраненными. (Все пионеры.)
Мучила Марину Ивановну и назойливая нищета; но и этот недуг был знаком многим и многим художникам... В старой Москве Цветаева была одна против всех. Даже гордилась этим. То же с ней повторилось в эмиграции; а в СССР повесилась. Ее самоубийство и гибель Есенина или Маяковского явления, кажется, разного порядка. Эти "барды" при других обстоятельствах продолжали бы весело и приятно жить. А Цветаева убивала в себе то, что изводило ее в продол-жение всей жизни и мешало общаться с миром: быть может, дьявольскую гордыню... Догадки, догадки, догадки.
"Дурехой" я ее прозвал за совершенное неумение прислушиваться к голосу собеседника. В своих речах - упрямых, ходульных, многословных - она как неопытный велосипедист, катила стремглав по прямой или выделывала отчаянные восьмерки: совсем не владея рулем и тормозами. Разговаривать, то есть обмениваться мыслями, с ней было почти невозможно.
Цветаева была очень близорука и часто не отвечала на поклон, так что многие обижались и переставали здороваться... Это удивляло и сердило Цветаеву.
- Может, среди этих людей тоже есть близорукие, и они вас не замечают! - довольно грубо объяснил я ей.
Этого она просто не могла сообразить.
Я встречался с Мариной Ивановной частным образом у Ширинских; там я познакомился с ее "милой", как выразился Пастернак в своих воспоминаниях, семьею. Жили они близко, в Медоне. Цветаева выступала также на наших литературных вечерах в "Пореволюционном клубе" и наве-дывалась в "Круг".
Под "милой" семьей я подразумеваю детей Марины Ивановны; мужа ее, Эфрона, чекиста, многолетнего бессменного председателя Союза студентов Советского Союза, не помню точно названия, я видел только издалека на собраниях Союза, когда там выступали гастролеры вроде Бабеля, Тихонова и т. д.
Дочь Аля, милая, запуганная барышня, тогда лет 18, была добра, скромна и по-своему преле-стна. То есть - полная противоположность матери. А Марина Ивановна ее держала воистину в черном теле. Почему так, не ведаю, и без Фрейда здесь не распутаешь клубка. Объективно это было тоже проявлением недомыслия. В особенности, если принять во внимание нежное восхище-ние, с которым Цветаева прислушивалась ко всякой отрыжке своего сына - грузного, толстого, неприятного вундеркинда лет пятнадцати... Он вел себя с наглостью заведомого гения, вмешивал-ся в любой разговор старших и высказывался довольно развязно о любых предметах, чувствуя себя авторитетом и в живописи раннего Ренессанса, и в философии Соловьева. Какую бы ахинею он ни нес, все равно мать внимала с любовью и одобрением. Что, вероятно, окончательно губило его.
Аля добросовестно ухаживала за этим лимфатическим увальнем; Цветаева в быту обижала, эксплуатировала дочь, это было заметно и для постороннего наблюдателя.
В начале 30-х годов, сблизившись с Ю. Ширинским-Шихматовым, я, естественно, предложил ему создать при журнале "Утверждения" литературный отдел. Для этого, казалось, имелись все данные: недоставало только средств.
Тогда, кстати, переехал на жительство в Париж из Берлина писатель-ростовщик В.П. Крымов. О нем рассказывали, что он опять разбогател, учитывая советские векселя; маклеры получали чуть ли не 33 процента, ибо мало кто еще решался ссужать большевиков наличными - если не по моральным, то экономическим соображениям.
Вот о Крымове вдруг пошли толки, что будучи миллионером и бездетным, он жаждет оказа-ться полезным зарубежной литературе... Сам писатель, он догадывается о нуждах своих собратьев и бескорыстно сочувствует им. Думаю, что эти разговоры "муссировал" сам Владимир Пимено-вич, исходя из старой поговорки: купить не купить, а торговаться можно.
Но вскоре поползли зловещие слухи о многочисленных случаях отказа! Ибо, разумеется, все имевшие отдаленное отношение к искусству (от бывших друзей Каменева до будущих глав государства) потянулись на виллу Крымова в Шату - у самой Сены. Кстати, эти же неудачники больше всего поносили воображаемого мецената, называя его и ростовщиком и большевиком, и раскольником и безбожником, а главное - графоманом. Между тем, его первый роман "Хорошо жили в Петербурге" отличная книга.
Владимир Пименович в темно-синей бархатной куртке, на английский лад, полуслепой, с толстыми стеклами "под Джойса" угощал очередного посетителя бокалом Мумма и отказывал в деньгах. Шампанское, по его словам, действовало магически, смягчая удар, создавая ностальгиче-скую, старорежимную атмосферу. Один именитый литератор тоже разбежался в Шату за ссудою. Крымов после, когда отношения между нами уже были совершенно ясные, так мне об этом расска-зывал:
- Помилуйте, НН., - говорю я. - Ведь вы, может быть, когда-нибудь пожелаете обо мне написать статью или критический отзыв. Как же я могу вам давать деньги...
Критик уехал, отказавшись от шампанского.
В другой раз Поляков-Литовцев почему-то прискакал за ссудою. Об этом смешно повество-вал Фельзен... Крымов будто бы взмолился:
- Дайте мне хотя бы переспать одну ночь с этой мыслью! А наутро отказал.
Несмотря на искреннюю любовь к литературе и упорную жажду славы, привязанность Крымова к деньгам, его болезненная, дьявольская, смешная скупость были сильнее всего и довели писателя, мне чудится, до полного тупика. Некоторую роль тут, вероятно, сыграла и его псевдо-научность: Крымов окончил в 19-м веке естественный факультет и все еще страдал наивным рационализмом.