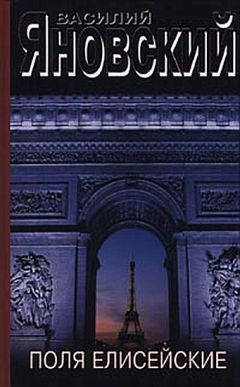Его издавали в Англии - он оплачивал переводы. Уверял, что "Сидорове ученье" англосак-сы сравнивают с лучшими произведениями Диккенса. Крымов был несомненно талантливым литератором, с культурою языка. Но беда в том, что купцом он оказался гениальным, и это действовало на нас, искривляя перспективу.
Буров, тоже писатель-спекулянт - графоман, прославившийся своим "спором" с Ивановым, уверял, что Крымов сразу по приезде из Берлина действительно мечтал устроить у себя в усадьбе нечто вроде колонии для "наиболее способных поэтов"... Ему мерещилось: благородные люди станут приезжать на викенд, они будут есть макароны и писать под кустами рентабельные поэ-мы... Вечер, бутылка Мумма, а они читают сотворенное и, пожалуй, посвящают вирши щедрому Владимиру Пименовичу.
Нечто в таком идиллическом духе ему несомненно вначале мерещилось. Но когда обнаружи-лось, что парижские литераторы все как на подбор "хамы" и норовят только содрать и убежать, нагадив еще в беседке... Тогда Крымов, пожалуй, действительно почувствовал себя оскорбленным. Ибо, как ни странно, именно очень крутые, жестокие, даже страшные люди часто имеют душу удивительно требовательную, нежную и обидчивую. Впрочем, говорят, что к концу жизни он подобрел и просветлел.
Когда выяснилось, что у нас имеется все необходимое для издания литературно-философ-ского журнала - все, кроме денег, - то естественным показалось обратиться к многоуважаемому Крымову за поддержкой...
И вот Ширинский-Шихматов с женою (Савинковою), Марина Цветаева и я, в морозный зимний бесснежный денек, мы отправились на стареньком рено князя в Шату на поклон. Кажется, было воскресенье, но хорошо помню на редкость лютую стужу.
С трудом и даже чинясь в дороге, мы добрались часу во втором к цели. Крымов, его "моло-дая" жена и ее отец нас встретили, радуясь гостям. День был такой (декабрь-январь), что, пожа-луй, уже начинало смеркаться.
Мы сидели в библиотеке с богатыми полками книг; слушали, как удачно переводят хозяина в Англии, в рецензиях его сравнивают с Диккенсом! Мне Крымов прочитал страничку из дневника - крайне пессимистический отрывок, где человек уподобляется мухе, попавшей на липкую бумажку. Я его искренне пожалел и посоветовал изредка молиться. Но Крымов гордился своим старосветским атеизмом.
Вскоре позвали обедать. К столу села еще одна чета: он - бывший издатель или редактор чего-то в Петербурге - теперь жил у Крымова на хлебах. Факт подлинного милосердия, о котором следует помнить.
Ели телятину, но к десерту подали Мумм, Cordon Rouge (марка, бывшая в России последних лет модной). Крымов много рассказывал о великих князьях, осаждающих его просьбами о помо-щи. Глаза Ю.А. Ширинского-Шихматова и без того косые, ханские, еще более хищно и насмешли-во сужались.
Тут отец жены хозяина сделал нам таинственный знак рукою, словно давая старт машине... И мы с князем вышли во двор и завели ручкою мотор, согревая его. С Сены дуло точно с Невы.
Тот же добрый тесть несколько раз спускался в погреб и приносил (по одной) бутылки Мум-ма. За третьим или четвертым бокалом шампанского Цветаева неожиданно достала чуть ли не из-за пазухи рукопись и начала уговаривать хозяина издать ее сказку в стихах с иллюстрациями, возможно, Гончаровой. Мы с Ширинским обомлели - от страха и возмущения. Вместо единого фронта "утверждений" получалось индивидуальное, шкурное соперничество.
К счастью, Крымов сразу ответил, что знает эту сказку и не любит ее...
Наконец, я решил, что наступило время "действовать", то есть рассказать о великолепном плане нового пореволюционного, литературно-философского журнала при участии Владимира Пименовича Крымова. (Как Ширинский потом выразился - "Пим-Здательство".) Но Крымов попробовал от меня легко отделаться, говоря, что после сытного обеда с хорошим вином трудно заняться серьезным делом.
- Что же, мы сюда приехали есть телятину? - довольно громко осведомился я. И хозяин явно сконфузился.
- Приедете в следующий раз, может, будет курица, - ответил он смущенно.
Догадываюсь, что у них был предварительный разговор, чем нас кормить! И Крымов настоял: дешевле телятина - все равно придется поставить шампанское, а оно все покроет... Что-то в его фигуре, тоне мне напомнило Иудушку Головлева, и я по сей день не могу от этого отделаться.
Увы, делового разговора не получалось. Решительно, помогла Крымову все та же Цветаева: ее вдруг развезло от нескольких стаканов шампанского, да так, что пришлось поспешно отступать в уборную.
Хозяин демонически сверкал своими толстыми стеклами. Не знаю, почему, я завел с ним беседу о любви, о Боге, Христе и дьяволе. Крымов, радостно улыбаясь, спорил... Он утверждал, что человек, получивший высшее образование и трижды объехавший вокруг света, не может ве-рить в воскресение из мертвых. Так, жизнерадостный Гагарин, облетев трижды землю по орбите, заявил, что он нигде в космосе не заметил Бога.
На этом мы расстались, обменявшись, впрочем, нашими произведениями с вежливой над-писью.
Позже, во времена Выставки зарубежной литературы, мы с Фельзеном съездили к В. Крымо-ву и уговорили его пожертвовать несколько сотен франков на первые наши нужды по транспорту и рекламе. Когда в Нью-Йорке я встретился с С. Прегель, то последняя, горько посмеиваясь, мне сообщила, что Крымов "заставил" ее вернуть несколько сотен франков - будто бы половину пожертвованной нам суммы! В этом пункте я безусловно верю Прегель.
По выходе в свет одного плохонького романа Крымова Юра Мандельштам основательно выругал его в "Возрождении"... А Крымов примчался к нам на выставку с жалобой:
- Помилуйте, я помогаю Союзу деньгами, а его члены меня шельмуют!
Болезненной фантазии Крымова представлялось, что отныне он купил, и весьма дешево, всю молодую литературу.
Цветаеву после этого эпизода у Крымова я обругал при свидетелях. Настроение у всех нас в течение целой недели было подавленное. Ширинский так описал общее состояние: "Точно мы все вместе выкупались в одной грязной ванне..." И это соответствовало какой-то истине.
В 1938 г. из газет стало известно, что на границе Швейцарии убит агентами Сталина выдаю-щийся троцкист, Рейсе, кажется. А затем из Парижа бежало несколько русских: Эфрон, муж Цветаевой, поэт Эйснер и чета Клепининых. Поскольку они все уклонились от французского суда и скрылись в "Союзе", можно считать доказанной их причастность к этому мокрому делу.
Вскоре и Цветаева решила переселиться в царство победившего пролетариата, увозя с собой, разумеется, сына; дочь уехала раньше. Тут все выглядит безумием или глупостью: злодейства Сталина, социалистический реализм, муж - чекист, убийца... Ну, при чем здесь Цветаева? Можно ли было сомневаться, чем все это кончится для Марины Ивановны? И довольно скоро!
Перед отъездом Цветаевой я зашел к ней в отель где-то у метро "Пастер". Я "коллекциониро-вал" подержанные кожаные куртки. А через Анну Присманову мне передали, что поэт хочет про-дать английскую куртку ее сына: мальчишка полный, тучный, существовала надежда, что куртка придется впору.
Итак, мы с Присмановой поднялись к Марине Ивановне в номер. Вещи уже были упакованы и Цветаева не желала или не могла развязывать узлы.
Мы расстались без улыбки и без условных пожеланий: у меня слова застревали в глотке. Весь темный, как будто обугленный вид этого загнанного или одержимого, но гордого, существа пред-вещал близкий и страшный конец. Полагаю, что она была тогда попросту больна, и если бы нашелся среди нас умный герой, достаточно привязанный к ней, то он бы силой удержал эту упрямую, несчастную, замечательную женщину от акта бессознательного харакири.
Присманова - всегда точно с флюсом: у фламандских художников попадались такие сухие, кривые, желтые женские лица на портретах, - Присманова осталась еще с поэтом наедине; дог-нала меня уже внизу и добросовестно похвалила стихи Цветаевой. Как будто стихи исчерпывают жизнь.
Остальное просто и ясно. Развязку можно было предвидеть. Я не знаю подробностей, но почему-то рисуется: вожжи, петля, русская конюшня... Кстати, перечитывая "Клару Милич", я всякий раз вспоминаю Марину Цветаеву.
Большие, "парадные" вечера - смотры парижской литературы - обычно устраивались в зале Географического общества (метро "Сольферино")... Туда еще стекались эмигранты времен Герцена и Мицкевича. Там же Адамович давал свой "бенефис" и, чтобы заинтересовать публику, приглашал для участия в прениях Керенского или Мережковского. Помню сводный франко-русский диспут с Андрэ Жидом, после его поездки по советской России (когда возмущенная молодежь кричала Мережковскому: "Cadavre! Cadavre!")
Лекции "Современных записок" тоже связаны с этим помещением; и Фондаминский по привычке его снимал для всех людных собраний - например, когда Сирин читал в Париже.
Последнего большинство из нас увидали именно там, на эстраде. Я пришел явно с недобро-желательными поползновениями;Сирин в "Руле" печатал плоские рецензии и выругал мой "Мир".