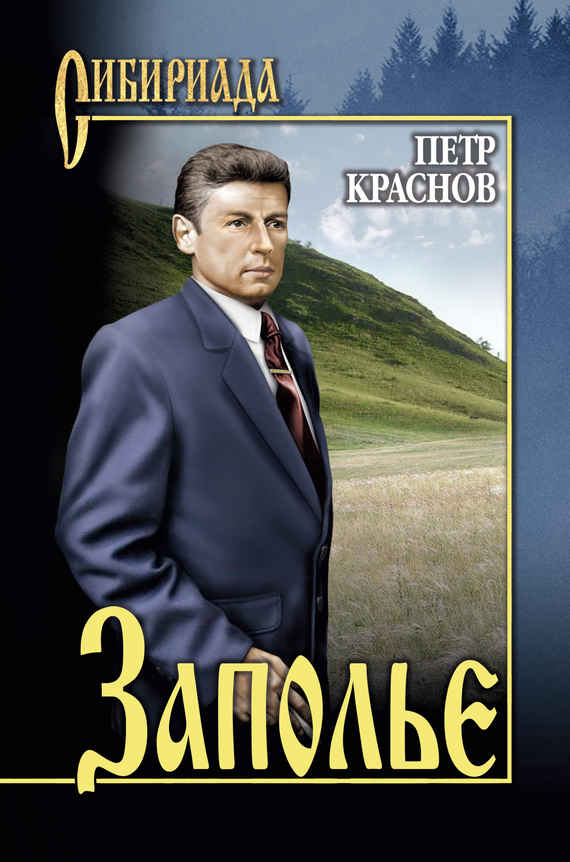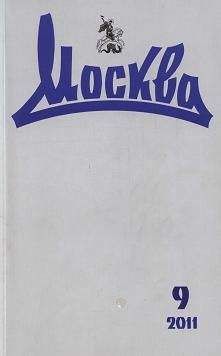хмуро поглядел опять, то ли передохнул, то ль вздохнул. — Но вот нам злобиться не надо, нет. Принимать надо как испытанье божье очередное на человека, себя выправлять. Нет, страшная вещь эта диалектика: не доглядишь — и сам не заметишь, как в такое скатишься…
— Вот именно. Может, обобщаете слишком… все мы люди-человеки. Иль убеждены?
— Всем корпусом современных данных… так это говорится? Давненько всем этим интересуюсь, отслеживаю, у бога пониманья прошу… Что, непривычно? — Он глянул приценивающе, усмехнулся; и, наконец, оттолкнулся от подоконника, к столу вернулся — но сел, недоверчиво на кресло покосясь, на стул, на стопку газет и бумаг на нем, ничуть оттого не чувствуя неудобства, привычный ко всему, видно. — Не-ет, когда дело сатаны касается — ничего не слишком. Преизбыток дурной зла в мире — это ж аксиома, согласитесь… согласны?
— Что спрашивать… На переучет бы закрыть его, хоть на время. На чистку.
— А сие дело не наше, не дай-то бог нам самим… уже пробовали, примеривались. Нет, все ж и равновесье какое-то есть, нам не понятное, гармония. И другая чаша весов не здесь, трансцендентна она… Но вот мы в одиночку все, и соборность наша если раз в столетье сработает, то и хорошо, — а они? Всегда-то вместе, в кулак сжаты, за любой свой интерес как один… — Он это на одесский манер произнес — «интэрэс», и говорил медленней теперь, раздумчивей, хотел быть убедительней, верно, и лишь худыми костяшками пальцев по столу нервно отстукивал, какой-то свой такт отмерял. — Корпоративность у них, знаете, святей ихнего папы, пахана козлоногого. Какой, впрочем, не чинится, все позволяет — до времени... Думаете, небось, свихнулся на идефиксе этом, демонизирую? Про меня?
— Ну, зачем же, Михаил Никифорыч… думаю, что не оставляете недодуманным. А то что-то разленились мы до конца мысль доводить — или боимся. В другом дело. На кой ляд вообще им тогда какая-либо вера, хоть и в нечистого… так я вас понял? Чего другого, а рацио, практицизма с цинизмом у них уж побольше нашего…
— Верно, все верно… А затем, что поначалу тут вопрос не столько веры, сколько идеи. А точней, веры в идею. В замысел свой, а не в промысл божий. И это, между прочим, не только у раввината высшего, но ведь и у христианской некогда верхушки западной тоже, в масонерию поголовную впавшей, — вера в концептуальную именно идею зла, вседозволенности. А прикрыть свою злостность эту… да хоть равенством добра и зла прикрыть, манихейством, булгаковщиной нынешней. Или там вынужденностью зла, как горького лекарства, почему нет. Но без крыши, навершия мистического, без метафизики своей идея — любая — не жилец, вот ведь в чем дело. И потому метасимвол ее, в свою очередь, просто не может не персонифицироваться рано или поздно в некое… ну, сверхличность некую, что ли, обоженную, это ж алгоритм человеческого мышления самого, матрица его. Нет, если уже не веруют, то верят: в идею, а чрез нее и в подателя сверхсущного ее, покровителя, вот ведь как! Для них же, поймите, добро на земле так же эфемерно или невозможно, как для старцев наших зло в творении…. Полюса!
— Логика своя, — сказал, наконец, он подуманное, — у вас есть, конечно…
— А тут не логика только… да и что она? Сама-то структура мира алогична, по всему, и антиномична насквозь. И этот холст, эта подоснова духовная — она то и дело сквозь грунтовку общеприродную проступает, сквозь наляпанное человеком тоже… А вообще-то, довольно грандиозную, по нашим понятиям, и трагическую успели мы картину намалевать, да и… мерзкую, что ни говори. И чем дальше, кстати, тем она больше осыпается, краска. Как ни замазывай, а проглядывает все чаще она, подоснова, — метафизическая, высшая. Все чаще, — убежденно повторил он, — и совсем неспроста это… Ну, а диалектика с логикой, антиномия — это лишь домоправительницы здешние, экономки, не хозяин сам. Лишь правила некоторые для жалкого разума нашего. К исполненью, впрочем, не так уж обязательные, любовь и их перемогает.
— Но смысл-то? — Непростым оказывал себя протеже Воротынцева, по той же последней фразе даже судя, да и не приходилось ждать другого — как и убеждать собеседника, что уж лучше объективировать и зло, и добро, к безличному относить как просто имеющему быть в природе вещей, чем пускаться в рискованные рассуждения насчет персоны с рогами, старушек пугать. Но раз уж зашла о том речь, надо было договорить, дослушать, додумать — пусть в качестве предположенья даже. — Им он, покровитель, враг человеческий по-вашему, даже опасней, выходит, чем христианам..
— Им-менно так! — не выдержал, вскочил по-мальчишески Сечовик, глядя горячо, влюбленно почти. — Кинет же, в конце концов… кидала известный! Душу выцыганит, весь их спекулятивный гений им же в насмешку обратит, в хохму. В кучу грязи, черепков их кучу золота превратит… сказку помните? И ведь любой же простец верующий про это знает, про чертово-то золото, но вот хитромудрого спекулянта иль ростовщика в пагубе этой никогда и ни за что не уверишь! Выше это сил его — черту не поверить, соблазну золотому, и мессия-машиах золотоносный, он же антихрист, в генах у него испокон, у богоборца, и только часу ждет, чтоб материализоваться, в земное исчадие воплотиться… да он уже и есть, в корпоративной-то форме.
— Да читал как-то мудрецов этих самых пресловутых — ну, какие это протоколы? Или фальшивка, или…
— Согласен, целиком! А им и выгодно оспаривать их как протоколы именно — которых, в таком виде, и вправду ж быть не могло. Только наши дураки могут целый век, как с торбой писаной, с такой глупостью носится: ах, протоко-олы! самого Базельского конгресса протоколы!. Типичные политические тезисы это, и автор их совсем даже не безызвестен: Ахад Гаам… был одессит такой, параноик подстать Адольфу.
— Вот как?
— Так, напряженный был черт. И вовсе не на Базельском еврейском, а на другом, уже в одиннадцатом году были приняты тезисы эти как программа, к действию. Для публики лопоухой мировой — опроверженья, суды, хай и гвалт всесветный. А для своих, доверенных, сами издают цитатник сей — без выходных данных, безо всяких нилусов, само собой, комментариев каких-либо, им-то они ни к чему… покажу, есть у меня экземплярчик — еле добыл.
— Каким же, интересно, образом?
— А через сокурсника, тот ныне в Броксвилле где-то бабки зашибает, дезертир. Через тех иудеев местных