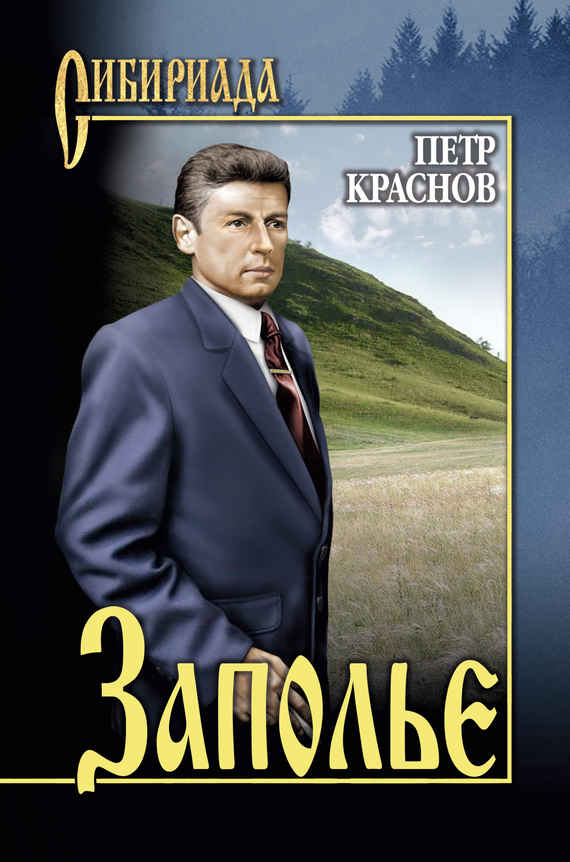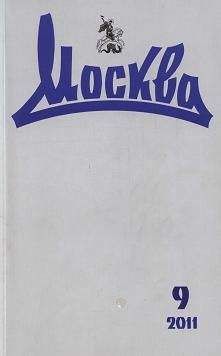было до футляра с мятыми бумажками, до этой текучей и потерянно-суетливой, огруженной беспамятством толпы соотечественников бывших, до катакомбного, ржавой водицей сочащегося потолка. Она жила, вела отсюда в свое светлое пространство вешнее, к высокому своему — и никого не могла увести из суетни этой и бездумья, кроме разве невольных, прокорма ради, певчих самих, к славе ее старой и достоинству, впрочем, никаким боком не причастных уже.
А хорошо поют, дураки.
Не созвонившись даже, не предупредив, явился Сечовик — старик почти, сухонький и подвижной не по возрасту, минуты посидеть спокойно не мог. И другим, кажется, не давал его, покоя, затеребил и Базанова сразу:
— Позвольте, это какой архитектор — не Алалыхин, часом? С бородкой такой, эспаньолкой? Тогда задаром не надо… только словесами испражняться, хвост распускать — никудышний! А на проекты хоть не смотри: сараи с окнами да башнями…
— Да нет же, — весело удивился Базанов, — никакой не Алалыхин, с чего взяли вы… Гашников, Петр Евгеньевич — потомственный, можно сказать, художник, знаток. Вот и статья его у нас вчера вышла как раз, гляньте-ка…
И тот успокоился тут же — ненадолго, впрочем; схватил газету, читать стал, быстро, проборматывая слова отдельные, фразы:
— Так… могилища… необратимость времени, но не духа… Это очень он верно… оч-чень, знаете! Дух веет где хощет, в том числе и во времени, да-да!.. Восточный придел, есть… Третья четверть девятнадцатого — ну это, положим… Время освящения, а не закладки, да. Та-ак, так-так… Нет, неплоха статья, и язык… да, и язык. И дело ведает. Но пунктиром как-то все, знаете, аллюром. Ах да, продолженье-то следует..
Алалыхина того, неутомимого толкача проектов своих и хулителя чужих, Базанов помнил, встречал несколько раз в околокультурных тусовках: из тех говорливых и к начальству ласкательных, велеречием обхаживающих, коих в злом просторечии пристебаями зовут и каких на беду поразвелось в восьмидесятых с избытком, не сулившим ничего доброго, повсюду копошились они, стяжали все что могли, особо не стесняя себя общепринятой, еще бытовавшей порядочностью и не стесняясь других. Поневоле невестку вспомнишь, Евдокею: глядела на младшенького своего, тогда двухлетнего еще, как он тянул от сестренки все игрушки к себе, головой качала: «Все «мне» да «мое»… Вот и построй с такими комунизму…»
— А вот, кстати, гашниковское, — он порылся в бумагах на столе, протянул Сечовику ксерокопию эскиза. — Церквушка в Непалимовке, из проекта его…
— Да? Оч-чень даже недурно! Но наша-то лучше. Да, лучше: изначальности больше, старинности. А тут новоделом пахнет, эклектикой некой… новодел же? — Базанов сообщнически, так получилось, кивнул, не сдержал улыбки. — Ну вот… Нет, подлинность предпочитаю, она не обманет. Обновленчество всякое — оно и в архитектуре церковной подколодно, сглупа или с прицелом. И в храмах должны они быть, догматы меры и красоты. Но это — не худшее, есть вкус.
— Да там коробка одна кирпичная осталась, в селе, ни фотографий, ни документов каких. От коробки плясали. И, простите, не вяжется как-то: красота — и догмат…
— А эллинская мера, золотое сечение — не догмат? — напал Сечовик, тряся скрученной уже в трубку газетой, шутить такие люди не очень-то умеют. Да и ты-то сам, спросить, из шутников, что ли? Чересчур серьезен, а здесь это, похоже, не прощается. Или в самом деле, как иные верующие смеют считать, не надо слишком-то всерьез мир этот принимать, много чести падшему? Многовато трагифарсу этому — если был бы другой взамен, лучший… — Во всем — архитектуре, скульптуре, драме? А распевы знаменные русские, иконопись, а старины или хоть песни народные?! Догмат в широком смысле — это всего лишь то, что отстоялось, временем проверилось… утвердилось в истинности, да! Вся классическая физика иль математика — сплошь догматы, с пифагоровых штанов начиная. Да раньше, с первых пирамид, с громового знака еще!..
— Все-все, сдаюсь, — засмеялся Базанов, руки поднимая, — капитулирую на ваших условиях… Леонид Владленович сказал, что статьи у вас есть, работы… неопубликованные?
— Да всякие, добра-то. Но газетчики, главреды наши… ну, сами их знаете. — Быстрая гримаса передернула лицо его, встал, шагнул к окну, глянул: — Это Урицкого? Ага, она… Бывшая Богородская улица — и мелкий черт, в крови невинной по уши, по рога… народ сатаны! Сунулся туда-сюда со статейкой — переименовать, названья вернуть изначальные. И все вроде «за», проклятое же совецкое наследство, все как один демократы, сочувствуют вроде, мамой клянутся как урки — а не дают, тянут. Наконец, прошла в молодежке кое-как статья — обрезанная…
— Помню, — сказал Базанов. Нет, еще не так стар был Сечовик — сам собою замаян, скорее, иссушен страстью своей к делу, страстностью изнурен, такие не часто, но попадаются в бедламе человеческом.
— Прошла, а дискуссию развернуть так и не дали… письма читательские, от писателей с художниками обращение, даже решенье предварительное горсовета — все замяли! Да еще притоптали: мы не какие-то там иваны, не помнящие родства, то все наша история — что ж, мол, и Москву Кучковым полем снова именовать?! Это ваш Борис мрак Евсеич, свет оппозиции, одежды раздирал. Так уж расстарался притоптать, батрацкий сын, что даже низовая демократура наша местная возроптала, меня поддержала: переименовать!.. Помните? Но и тем, и другим хвост мигом прижали, заткнули рты, вообще эту тему закрыли… спросите, кто? А третья сила. В путеводитель по городу — не поленитесь, загляните: если не Абрамовича улица, так Володарского или Цеткин, а то и Розы пламенной с Либкнехтом, который отнюдь не у Клары и не кларнет украл, а… говорю ж, народ сатаны!
— Прямо так уж и народ? — усомнился он, разговоры подобные слышал-переслышал, читал немало тоже, и дым, чад этот не без огня, конечно; но больше-то, пожалуй, слабость свою оправдываем, несамостояние, неуменье самими собою быть. Побольше бы о силе своей заботиться, чем чужую силу клясть. — А не перебачилы трошки? Они уверяют, что божий.
— Был. Без малого две уже тыщи лет назад, как был. Вы диалектику уважаете?
— Чту, — ухмыльнулся Базанов. — В меру разумения.
— На нее теперь тоже накат идет бешеный, наезд, как на все разумное, очень уж хотят нам извилины спрямить… ну, это не диво. А она хоть и много ниже антиномии бытия великой, но такое ж насаждение божие, как и всякое прочее, никто ее не отменял. И по ней, по диалектике… Был, а богу не внял, отрекошеся