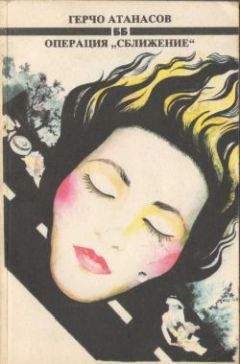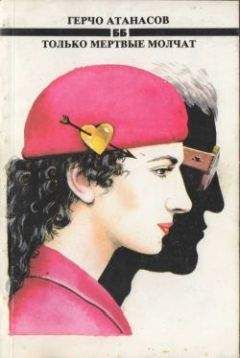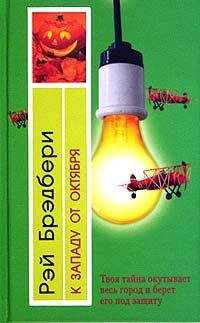мужчины бывают минуты, когда одиночество становится ему вместо тени и неотступно, хотя и безмолвно, следует за ним. В такие минуты хочется поднять телефонную трубку, сесть в самолет, схватиться за перо или обратиться к ближнему своему, сколь бы ни был такой выход иллюзорным. Наверное, ты уже вернулась в город, начались репетиции, настала осень — малая осень, время одного года, из многих таких времен складывается осень большая. Я думаю о тебе, но не по-мужски, не только по-мужски, поверь мне, правда, я еще и сам в этом как-то не разобрался, но думаю я о тебе гораздо проще и вместе с тем сложнее — как о близком мне существе. Не обижайся — те, кто нам нужен, не должны страдать честолюбием. Я хорошо тебя помню, хотя не прилагаю для этого особых усилий — и это чудесно. Помню твои слова, их порядок, интонацию, смысл — всегда твои и только твои. Мне врезался в память твой уход. Сейчас я спрашиваю себя: почему я не остановил тебя? Елица ревнует к тебе, это очевидно, но есть ли у нее основания и имеет ли она на это право?
Беззаботное лето несет в себе нечто мимолетное, хотя и кажущееся прочным. Особенно, если это раненое лето. Сейчас стоит осень, здоровая, плодоносная, время забот, предчувствие надвигающейся зимы. Для меня это — осень с большой буквы и эта буква заметно становится все больше. Это естественно, но не утешительно…»
Нягол отбросил ручку. Пишу глупости мудрым тоном, а на самом деле жалуюсь, ищу утешения у девчонки. Эх, Нягол, Нягол, стареешь, брат, скоропостижно дряхлеешь! Он снова схватился за ручку.
«…Это многоточие, Мина, нечто вроде паузы, которой требует совесть. Я понял, что жалуюсь и ищу у тебя утешения, потому что ты молода. Не верь мне. Старость весьма коварна по отношению к молодости, и это естественно, хотя и отвратительно. В нас, стариках, поднимает голову потихоньку звереющий эгоизм, отчаянная жажда радостей жизни. «Живи и радуйся жизни!» — был такой фильм новой французской волны, не знаю, почему он мне вспомнился… Ах, да, — потому что я увидел себя в роли главного героя! А заглавие — не о нем, старике, а о молоденькой девушке, к которой он подбирается якобы по-дружески, благожелательно, но на самом деле им движет атавизм, глубоко затаенный в остывающей, густеющей крови… — Нягол явно путал фильм с другим, но сейчас это не имело значения. — Живи и радуйся жизни, милая Мина, не обращай внимания на старика и его коварные исповеди, в которые он и сам не верит. И если когда-нибудь, летом или зимой, мы снова увидим друг друга-я хочу чтобы мы встретились и могли смотреть друг на друга открыто и говорить простыми словами. Прощай».
Нягол перечитал написанное, зачеркнул запятую и приписал: «Если тебе случится приехать сюда, дай о себе знать, запросто, без всяких стеснений. Пусть будет так, Мина. Нягол».
Сложил письмо, положил в конверт и сунул меж старых рукописей.
На следующий день они встали рано, Елица приготовила завтрак, выпили кофе. Нягол проводил ее до двери: Елица шла на свой первый экзамен, из тех, что ей перенесли на осень. Накануне вечером они говорили о том, что предмет обширный, материала много, но Елица заверила его, что она спокойна, во-первых, потому что готова к экзамену, причем не со вчерашнего дня, а во-вторых, потому что вообще не склонна волноваться по таким поводам. Правда, у нее были стычки с преподавателем на семинарах, они обменивались любезностями; если он решил ее срезать, то все равно срежет и никто ему не помешает, а она — меньше всего. В конце концов, жизнь превыше всякой философии, превыше всех дипломов и образований, нужно только жить как следует. Нягол сказал, что Теодор с Милкой не переживут, если она завалит сессию, на что Елица ответила, что оставила дома записку: «Я постараюсь быть разумной и достойной дочерью профессора и надеюсь когда-нибудь преподнести вам свой диплом». Как голову Иоанна Крестителя Саломее, — добавила она, стрельнув в Нягола глазами. Интеллигентный зверек, залюбовался ею Нягол.
Полдня он листал рукопись, копался в ней, пыхтел, варил себе кофе. Работа не шла, он ждал звонка Елицы, он она все не звонила.
Зазвонил телефон, и Нягол подскочил. Каково же было его удивление, когда он узнал голос Теодора. Начинается, подумал он, но снова был удивлен: не спрашивая об Елице, Теодор пригласил его на ужин с каким-то Хеннесом, своим бывшим учителем немецкого языка, а ныне доктором славистики в Дармштадте, приехавшим на симпозиум. Нягол заворчал, собираясь отказаться, но Теодор принялся страстно его упрашивать: немец говорит по-болгарски, отлично знает русский и очень доброжелательно настроен, интересный человек, но что самое важное — специалист по литературе. Что ему, химику, делать с этим немцем, если Нягол не придет?
Стоит ли брать с собой Елицу? — прикидывал Нягол, но потом решил, что о примирении говорить рано и отец с дочерью будут чувствовать себя не в своей тарелке. Хоть бы она выдержала экзамен! Он ответил брату, что принимает приглашение только ради него. Теодор явно обрадовался, долго и пространно благодарил и только потом спросил, звонила ли Елица. Тут Нягол решил, что, пожалуй, лучше солгать, и потому сказал, что Елица решила сдавать со второй группой, так что ждать результатов еще рано. Теодор помолчал, то ли поверил, то ли не поверил, только оживление в голосе у него пропало без следа. Они простились, договорившись вместе зайти в отель за немцем-славистом.
Только успел он положить трубку, как снова раздался звонок. Елица. «Мсье, — услыхал Нягол, — можете поздравить свою племянницу со всемирно-историческим успехом! Левое крыло Бастилии пало, готовлюсь к штурму правого. Прошу объявить трехдневные домашние пиршества с фейерверками и принесением в жертву вкусных животных. Слышишь?» — «Слышу, слышу — и поздравляю тебя с победой! — ответил обрадованный Нягол. — Обмоем на уровне… Я только что говорил по телефону с твоим отцом. Позвони ему.» — «Малодушие — наша семейная черта, — объявила Елица, — а будущее принадлежит малодушным. Звоню и иду!»
Обедали в ресторане неподалеку, за обедом выпили. Елица рассказала об экзамене, о преподавателе: ему тридцать пять лет, он наконец-то получил долгожданную прописку в столице — привилегия, ценимая даже в средние века, педант, любитель нежного пола, ценз — образованный недогматик. Встретил ее любезно, сказал, что рад ее видеть, беседа протекла весьма дружески, и она даже сказала ему, что инквизиция — не только плод крайнего догматизма, борьбы интересов и страстей, но и продукт тайного атеизма политизованной католической