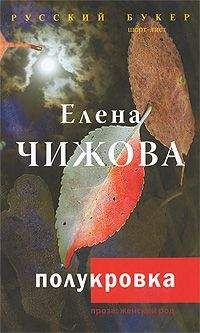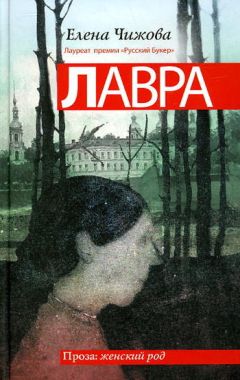"Вы считаете, наша прогулка - грех?" - я спросила надменно, и он сморщился. Гримаска вышла жалкой. "Нет, конечно, нет, - он поднял на меня глаза, - но ты должна понять меня... к чему это может привести... Мне трудно лгать, потому что я... Последнее время, ты не могла не заметить, я совсем перестал... к вам", - теперь он сбился и замолчал. "Ну, что ж, мне понятно, холодная ярость поднималась в моем сердце, сводила язык, - как вы воспользовались моей откровенностью. То-то, гляжу, венчаны - не венчаны... Значит, меня - в вавилонские блудницы!" - я задохнулась. Теперь я понимала, к чему его бегающий взгляд. "Это неправда! - он перебил. - Ты - ни при чем, ни одного слова я не сказал о тебе". - "Значит, дело в вас?" - так я спросила, и он не нашелся с ответом. Он смотрел мимо моих глаз. Его взгляд, уводя в сторону, путал следы. "Да, если так, то - дело во мне", - отец Глеб подтвердил эхом.
"Если я правильно поняла, - я приступала нежно, - случись меж нами история - это ваш грех? Вы один - как будто меня и не было - попадете в последний круг, туда, где предатели и соблазнители?" - "Да, - он ответил горестно, случись предательство, этот смертный грех - мой". - "Вам не надо бояться, этого не будет, обещаю вам, я позабочусь". Он покачал головой.
Приходя в себя на глазах, словно уже чувствовал себя спасенным, отец Глеб заговорил о том, что, как бы то ни было, из моей жизни он не имеет права устраниться. Роль духовного отца накладывает определенные обязательства, от которых ему ни при каких обстоятельствах не пристало бежать. Он говорил о том, что, если что-то и изменилось, эти изменения не касаются главного. Впредь, если понадобится, я всегда могу на него рассчитывать.
"Когда-то давно, много лет назад, - отец Глеб начал, как сказку, - у меня не было телефона, у нее тоже, и тогда мы оставляли записочки, прилепляли пластилином, здесь, к скамейке, - правой рукой он пошарил, нащупывая, как будто она, потерянная в прошлом, в последний миг успела налепить. - Если сесть и осторожно провести рукой, в этом углу камер нет, никто не заметит", - он объяснял воодушевленно. "Камер?" - я оглянулась, не понимая. Призрак полого омара, укрывавшего телеэкран, всплывал из глубины тоннеля. "Я обследовал внимательно, еще тогда, в вестибюлях всегда камеры, записывают тех, кто вступает в контакты. Метро - объект усиленного наблюдения, скопление народа, удобно передавать и получать документы", - тихим голосом он рассказывал любовную историю, но облекал ее в безумные слова, как будто мы оба впали в детство, начав игру в шпионов. "На этой станции их - шесть, но все расположены так, что ни одна не захватывает угол, здесь - безопасно". Я облизнула губы. Не замечая, отец Глеб продолжил: "Нас учили в университете, на военной кафедре, ГБ боится иностранных шпионов, увидят, что приклеиваем, понаблюдают раз-другой и могут замести". - "Учили ловить?" - я не удержалась. Может быть, не расслышав, он пропустил вопрос. "Если я тебе понадоблюсь, приклей сюда записку, я буду приходить иногда, раз в неделю, и проверять", - отец Глеб поднялся. Не прощаясь, он двинулся к эскалаторам, мешаясь с толпой. Я сидела, не поднимая головы. Мысль о том, что нас могут принять за иностранных шпионов, казалась смехотворной. "Уж если Иосиф, разряженный в местное... У тех, за камерами, подавно взгляд наметанный".
Теплый воздух метро шевелил мои волосы. Теперь, когда он ушел, я вспоминала нелепый и тягостный разговор. Из тоннельной глубины тянуло смолой и жженой резиной, словно на перегоне, разрытом поперек, висел над распяленной треногой огромный котел. Вокруг него копошились рабочие, шевелили растопленную жижу. Красные отблески пламени ходили по черным лицам. Сосредоточенно внюхиваясь, я пыталась поймать мелькавшую мысль: она дрожала в воздухе, как сладкий пар над котлом. Запах растопленного вара возвращал меня в детство, куда уводил и отец Глеб - игрой про шпионов. "Что-то еще, детское, как же там..." Ровный стук уходящего поезда поднялся за стенкой, и, прислушавшись, я вспомнила потасовку разночинных иподьяконов, дождавшихся отъезда владыки. Все соединялось снова, нанизывалось на холодный стержень, на котором лежали мои слабые руки. Во второй раз, будто одного было мало, я думала о том, что в этой повторяющейся детскости таится неведомая опасность. Вспоминая отца Глеба, гревшего руки над сколотой чашкой, я отгоняла мысль о жестокосердии, перешедшем, может быть, из прошлого века.
Весь следующий день я провела в хлопотах, - две пары семинарских занятий, заседание кафедры, встреча с научным руководителем. Строго говоря, эта встреча была формальностью. Во главе нашей кафедры стоял ректор, однако, занятый административной работой, на кафедре он появлялся в редчайших случаях, передоверив руководство научной работой своему заместителю. По званию, - а Лавриков к тому времени успел стать профессором, защитившимся по совокупности, - он должен был иметь аспирантов. Каждый год на него записывали одного или одну, с тем чтобы фактическое руководство осуществлялось все тем же заместителем. Талантливый заместитель из года в год тянул двойную лямку, надеясь рано или поздно защититься и в свой черед получить профессорство. Этому, по понятным соображениям, Лавриков всячески противился. Ко времени моей аспирантуры Валентин Николаевич пережил две провальные защиты и готовился к третьей. Ректор снова обещал свою помощь. В общем, один раз в году аспиранты должны были являться пред светлые очи и напоминать научному руководителю как о своем существовании, так и о теме диссертационного исследования. Справедливости ради, мы встречали самый сердечный прием. Вышколенная секретарша, со второго раза узнававшая нас в лицо, просила подождать совсем-совсем чуть-чуть, чтобы, выпустив очередного посетителя, широко распахнуть дверь и объявить на всю приемную: "Юрий Михайлович, к вам ваша аспирантка. Какой-то срочный вопрос по ее работе. Примете?" Из-за двери слышался снисходительный рокот, и влажный голос ректора, проходящий сквозь стены, приказывал немедленно впустить.
Я вошла в обширный кабинет и представилась по форме. Имя, фамилия, срок защиты, тема диссертационной работы. Ректор, сидевший за столом, поднялся мне навстречу: "Ну, что, какие вопросы, сейчас все разрешим, - мимо меня он шел к широко распахнутой двери. Осторожно прикрыв, вернулся на место. - Садитесь, садитесь", - он приглашал радушно. Разложив приготовленные листы, я коротко сообщила о ходе исследования, сформулировав два незначащих вопроса, на которые заранее знала ответы. Все настоящие мы обсуждали с Валентином Николаевичем. Задумавшись на секунду, ректор предложил мне обратить особое внимание на сбор и математическую обработку исходных данных, в процессе которой ответы на мои вопросы появятся сами собой и непременно. Я поблагодарила и поднялась. Он шел за мной к двери. Распахивая и выпуская, он улыбался и наказывал явиться через неделю, когда необходимые данные будут собраны и обработаны. "Хорошо, Юрий Михайлович, обязательно, недели мне хватит, я вот как раз - в следующую пятницу, если вы позволите", - не чувствуя отвращения, я легко вступала во взрослую игру. "Да, да, но не позже пятницы, в это же время, я буду ждать. Извините великодушно, - он обращался к ожидающим в очереди, - но аспиранты наш крест..."
По лестнице я спускалась со спокойным сердцем. Плановая встреча прошла без осложнений. Следующая - через год.
Выйдя из института, я направилась к метро. Нырнув под аркаду Гостиного, я пошла вдоль витрин, не заглядывая. Легкость уходила из сердца. "Как же я устала", - ежась, я думала о том, что надо же и развлекаться, как люди. Люди выходили из дверей, несли увесистые покупки. Что-то веселое вступило в душу, и, свернув, я вошла в универмаг. В этот час очередей не было - дневной дефицит успели распродать. Сонные продавщицы стояли за прилавками, раздумывая о своем. Может быть, они грезили о вечерней свободе, которая наступала для них со звонком. По правую руку размещался отдел готового платья, куда, помявшись, я вошла. Готовые платья я не покупала никогда. Не то чтобы я заранее считала, что в этих отделах для меня нет достойного. Так уж сложилось: то не было денег, то времени - стоять в очередях. В общем, если не считать заграничных подарков мужа, я носила то, что шила сама.
В отделе покупателей не было. Продавщицы, одетые в одинаковые халатики, стояли в стороне - стайкой. Платья, распределенные по размерам, висели бочком, на распялочках. Их было много - сто, двести, - больше, чем сулил мне Митя по числу будущих, полных счастьем, американских лет. В этом отделе счастья хватало на многих. Оглядевшись, я растерялась. По правде говоря, я не знала своего размера. То есть, конечно, знала, но европейский - шила по "Бурде". Обдумав и решившись, я приблизилась. "Простите, - я обращалась вежливо, - дело в том, что моя родственница, из другого города, - для пущей достоверности я представила Верочку, - она попросила меня купить, но размера не сообщила, немного полнее меня..." Девушки не удивились. Оглядев, они предложили мне выбирать и мерить, потому что размеры-то проставлены, но никогда не скажешь заранее, насколько соответствуют. "Зависит от лекал", - они объяснили туманно. Вообще говоря, я удивилась. Европейские размеры ни от чего такого не зависели. Собирая мужа в дорогу, я писала на бумажке точные номера и давала описание необходимого: ткань, цвет, отделка, фасон. Привезенное подходило. Поблагодарив, я пошла вдоль рядов. Прикинув на глаз, я вытянула из строя первое. Загадочный номер, мало что говоривший, стоял на ярлыке. Войдя в кабинку, я надела.