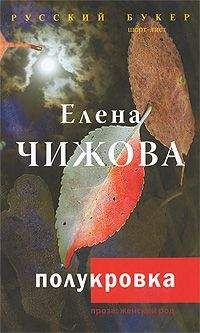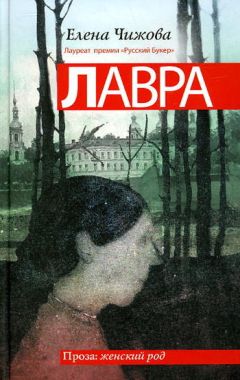Странное существо глядело на меня из примерочного зеркала. Нелепый, приземистый манекен, словно вырубленный топором, на котором, сморщенное кривыми складками, висело безразмерное платье. Девушка-продавщица заглянула, слегка отодвинув шторку. "Попробуйте поменьше и другой рост", - она посоветовала, оглядев равнодушно. Раз за разом, я пробовала новые, каждый раз надеясь. Горестный манекен отступал на шаг и оглядывал с отвращением. Отчаявшись, я сняла последнее. "Ну, как, не подобрали?" - продавщица обратилась устало. "Не знаю, как-то все, мне кажется, ей не понравится", - я отвечала, продолжая нелепую выдумку. "Она у вас из какого города?" Растерявшись, я назвала Верочкин. "Господи, да возьмите что попало, лишь бы не малЛ, там у них... - она махнула рукой на всю огромную страну, - вы бы видели, что они здесь хватают", - продавщица говорила доверительно, осматривая мой женевский плащ. "Да, да", - я кивнула и направилась к выходу.
Спустившись в метро, я дошла до скамейки и села. Развлечения не получалось. Невесть почему я вспомнила песню про коричневую пуговку, которую мы распевали в детском саду: "...а пуговки-то нету у левого кармана, и шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны для нагана и карта укрепления советской стороны!" Раздраженно я думала о том, что и песенка, и Митины платья, и отец Бернар - все ни при чем: из другой оперы. Здесь - все не так, все по-другому, шито по-русски. Те, за камерами, совершенно правы: любой шпион, посетивший Гостиный, легко преображается в местного. "Тихо, - я приказала себе, - тихо, если так, значит - верно и обратное: любого легко преобразить в шпиона, переодев". Пожав плечом, я вспомнила рассказы мужа о стилягах: ловили на Невском тех, кто одет в заграничное. Теперь я понимала логику. Снова горел огонь под треногой, снова вырастали облитые отсветами фигуры, шевелившие баграми растопленную тьму. Новый стержень, похожий на длинный багор, ложился в мои руки. Все собиралось, играло в свою игру, ловило на соответствиях. Высокий ректорский кабинет, в который я входила аспиранткой, снова вставал предо мною. Расстегнув плащ, я ощупала заграничное: прежде чем стать ректором, он ломал людей, а значит, оглядев и приняв за шпионку, он должен был сломать и меня.
Господи, зачем я так, с отвращением я думала о том, что в моей голове сидит отвратительный механизм, похожий на снегоуборочный комбайн. "Вот, в детстве, хотела дворником - пожалуйста, все - в одну кучу". Куча грязноватого снега, собранного от кромок, лежала вдоль моей дороги. Усмехнувшись, я подумала: "Этот снег, пожалуй, постарше прошлогоднего". Опасливо оскользая и погружаясь в прошлое, уходящее дальше непойманных стиляг, я шла вдоль намерзшего тротуара и слушала собственные слова, произнесенные в ректорских покоях - скороговоркой: имя, фамилия, тема, срок защиты, нет, остановившись, я сказала, нет, это сейчас, когда их смели' в ком: нетронутые, они звучали по-другому. В разных дверях, из которых не было обратного выхода, эти слова, в тот миг звучавшие правильно, произносили другие губы, холодевшие в тоске. Тоска заносила мое сердце, забрасывала комьями снега, гремела прикладом. В этой тоске я думала о том, что на будущий год снова, как ни в чем не бывало, мне придется войти в высокую комнату, и ректор поднимется ко мне от стола. Плача от унижения, я думала о том, что в этой огромной стране, на которую махнула рукой продавщица, ни от чего нельзя защититься. Любая защита становилась безобразной, как их безразмерные платья; она имела обратную сторону - выворачивалась наизнанку наскоро заделанными швами.
Неостановимо, словно комом сорвавшись с ленты, падало то, что говорил отец Глеб: в университете показывали камеры, учили распознавать и ловить шпионов. Господи, я думала, какие такие шпионы, в нашем-то метро, среди пассажиров, становящихся легкой задачей. Все - одного поля: и Лавриков, и отец Глеб. Научился и пошел работать - в Кресты. Ком плюхнулся и распался: или я, или они. Вместе нам не ужиться. Нет, так нельзя, разве можно, чтобы не доверять никому. Что из того, что я - здесь, а не там, где вырос отец Бернар. Под сердцем, под желудком, в пустом, обессиленном теле, словно распяленном над огромной треногой, горел негасимый огонь. Они, которым я не верила, стояли надо мной в отсветах жирного пламени, шевелили двойными баграми, погружая по рукоятку. Тоска по Мите, застывшая черной смолой, вскипала в котле. С ним одним я могла без утайки.
Едва не застонав от тоски и боли, я вжалась в жесткое сиденье. Давние Митины слова - "Если этот народ желает излечиться, от таких, как я, он должен избавиться" - стучали в висках. Не механизм, похожий на снегоуборочный комбайн. Я думала о себе, как о зараженной почве, усеянной крупяными зернами. Их сыпали пакетами и горстями, швыряли со всех этажей. Те, кто швырял, не выглядывали в окна. Им нечего было опасаться: мертвые, разбросанные по земле, эти зерна никогда не должны были прорасти.
Только теперь, оставшись совершенно одна, я поняла, как случается по Слову, когда мертвое и смердящее начинает оживать. Оно само выбирает почву, шевелится в глубине, прорастает чужими грехами. В тоске и ужасе я думала о том, что защиты нет, теперь - моя очередь, потому что, мертвые, они выбрали меня.
На жесткой скамье я сидела оглушенная. Распахнув сумку, я достала клочок бумаги и написала мелкими, совершенно шпионскими буквами: "Пожалуйста, позвоните мне". Написала и сложила так, как складывал Митя.
Пластилина не было. Пошарив, как шарил отец Глеб, наученный в университете, я нащупала чужой изжеванный шарик: шпионскую жвачку, налепленную на край. Преодолевая отвращение, я размяла в пальцах и, приложив к изнаночному краю скамьи, прилепила намертво.
Короткопалые руки
Он позвонил вечером, на следующий день. Растерянный голос поднялся в трубке и, не дожидаясь объяснений, предложил встретиться тотчас же - подальше от центра. Он сам назвал отдаленную станцию метро и, переждав мое растерянное молчание, объяснил: оттуда рукой подать до речного вокзала. Я не удивилась. Мои мысли плескались в иных широтах, и место встречи, выбранное отцом Глебом с каким-то одному ему понятным прицелом, оставило меня равнодушной. Мельком я подумала о том, что отдаленное место - новая дань шпионским играм.
Собравшись наскоро, я вышла, торопясь к оговоренному часу. Когда я сошла с эскалатора, он уже ожидал. С первых же слов выбор легко объяснился. Сегодня он служил на правом берегу и, понимая, что время позднее - центральные кафе к девяти закрывались, не ходить же по городу, где то и дело падают навзничь, с пеной у рта, - вспомнил о маленьком, неприглядном ресторанчике речного вокзала, открытом круглосуточно. Пустой автобус подвез нас к причалу, и, радуясь своей предусмотрительности, отец Глеб указал на окна, горящие, несмотря на поздний час.
Поднявшись на пирс, мы прошли темными коридорами, такими низкими, что хотелось пригнуть голову, и вошли в небольшую комнату, из окон которой открывался вид на реку. В углу за смутно освещенной стойкой скучал одинокий официант. По всему пространству были расставлены высокие столы, лишенные стульев, а слева, за колонной, убранной вьющимися растениями, похожими на порядком увядшие традесканции, пустовал единственный столик нормальной высоты, как бывает в булочных - для стариков и детей. Посетителей не было. Судя по непроглядной тьме на пирсе, не ожидалось и теплоходов, так что открытый в этот час ресторан оставался необъяснимой, но удобной данью традиции всех без исключения вокзалов. Оглядевшись, мы подошли к стойке. Меню отсутствовало. Предлагаемое лежало на витрине, являя собой жалкое зрелище. Селедка, обрамленная мелко изрубленным винегретом, сайра, выложенная из консервных банок и окруженная ломтиками яиц, иссохшие шпроты, похожие на рыбных мумий. Ранние весенние мухи, подманенные запахом, кружили, не решаясь остановить выбор. Коротко обсудив, мы выбрали водку. Точнее, выбрала я, и отец Глеб кивнул, соглашаясь.
Устроившись за столиком - не то дети, не то старики, - мы разлили по стаканам. Отец Глеб поднял, и, к удивлению, я обнаружила, что он совершенно не умеет пить. Держа стакан, как надколотую кофейную чашку, он подносил к губам и, пригубив, отводил в сторону. Пригубленная водка разъедала губы. То облизывая языком, то сглатывая облизанное, он вскидывал глаза, но опускал, не решаясь начать. Я тоже молчала. Здесь, вдали от города, я чувствовала себя неуверенно. Сквозь широкие - во всю стену - стекла, начисто лишенные занавесей, я видела дрожащие речные огни, похожие на язычки свечей. "Здесь тихо, как в аквариуме, - я сказала, - некому биться в припадках". - "Разве что вот ему, от скуки. Видать, смертная", - отец Глеб подхватил вполголоса и кивнул на официанта. Мне показалось, он стыдится. Я глотнула и отставила. Только теперь, почувствовав горечь, я вдруг подумала, что голодна. В пустом желудке вспыхнуло. Смоляная тоска обливала обожженные стенки, кружила голову. То, ради чего я позвала, показалось необъяснимым. "Со мной происходит странное, я никак не могу объяснить, но это так, как будто я чувствую себя шпионкой, чужой, никак не могу приспособиться к этой..." - я помедлила, не решаясь произнести: "стране". То касаясь губами горького стакана, то отставляя в сторону, я рассказывала о том, что нет покоя моему сердцу, рвущемуся пополам: меня терзает жалость к Мите, но сердце становится грубым и жестоким, стоит ему заговорить об отъезде. Касаясь губами горьковатого края, я признавалась в том, что обвиняю Митю в предательстве - помимо воли. "В предательстве?" - отец Глеб переспросил удивленно. "Нет, конечно, не в этом советском, - я заторопилась. - В предательстве жизни, потому что отъезд смерть". Брови отца Глеба надломились.