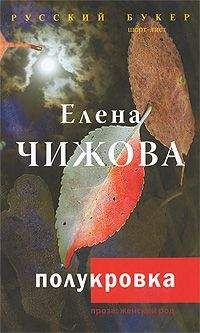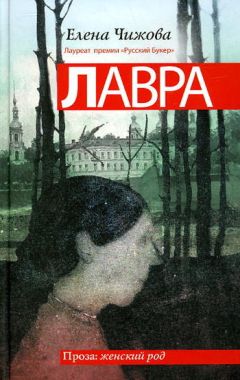Перескочив, я заговорила о Верочке, о том, что завидую таким, как она, им легко и покойно, и их - большинство. Но есть и другие, такие, как я, похожие на царя Мидаса: все, к чему прикасаюсь, превращается в боль и горечь, словно нет для меня обыденной человеческой радости. "Ей-богу, проклятье какое-то", я сказала в сердцах. "Что-нибудь в институте?" - он спросил вежливо. "А, да, еще и это, будущая защита, одно отвращение". Отец Глеб слушал, не перебивая. В его глазах, утомленных долгой службой, стояла привычная и равнодушная усталость. "Скажите, может быть, мне - в монастырь? - я спросила тихо, как про себя. - Буду молиться и читать книги", - шероховатые бахромчатые обложки глядели на меня поверх монастырской стены. "Глупости! - он отогнал быстро и раздраженно, словно только теперь, пробудившись от равнодушия, вступал в разговор. - В монастырь уходят, а не бегут. Кроме того - силы у тебя не так уж и много. В монастырях - строгое послушание. Таких, как ты, - он выделил голосом, - прямиком на скотный двор". - "Зачем? - я спросила, тоскуя, как будто уже стояла над навозной кучей с вилами на изготовку. - Можно же что-то более, - я подбирала слово, - умелое, ну, в библиотеку..." - "Может, сразу в настоятельницы? - он откликнулся раздраженно. - В монастырь приходят другие, смиренные сердцем, не чета тебе". - "Если бы Господу была угодна душа скотницы, с самого рождения Он поставил бы меня над кучей, - я ответила тихо, - а теперь, что ж - теперь уже поздно, только растоптать".
Опустив глаза, он пережидал приступ ярости, поднятой моими богохульными речами. Торопливо, не давая вырваться наружу, отец Глеб заговорил о том, что тяготы и страхи - обычное женское, надо родить, и все образуется, младенец займет тебя всю, на другое не останется ни времени, ни сил. "Странная история, то, как вы говорите, тоже похоже на смерть". - "Да, это правда, женщина умирает в детях, из века в век, и так будет всегда". Холодный отсвет невских огней дрожал в его зрачках, словно глаза, повернутые вглубь, видели череду заживо истлевающих женщин, склоненных над колыбелями. Как будто глядя его глазами, я видела темные женские пряди, выбивающиеся из кос. Руки поднимались, и прямо под пальцами жесткие пряди слабли, наливаясь сединой. "Ну ладно, хорошо, пусть так - с женщинами, - с отвращением я отогнала видение, - а как же..." - "Мужчины? - он подхватил с готовностью. - Мужчины должны спасаться и спасать, вопреки!" Белые речные огни всплывали с глазного дна, загорались счастьем. Под этими огнями, глотнув и отставив горечь, я сказала: "То, что вы называете спасением, жалко и убого, но это еще не беда. Беда в том, что вы тщитесь спасением управлять, - горький водочный смех вскипал пузырями, лопался на моих губах. - Есть такой закон, для тех, кто управляет, его спрашивают со студентов, сейчас, - я махнула рукой, пьянея: - я расскажу вам, вот: любая управляющая система должна быть сложнее управляемой, иначе все кончается крахом", - смеясь, я разводила руками. Сидя напротив, он клонил голову по петушиному, словно готовился склюнуть меня, как зерно: "Это у вас, в науке. В церкви - по-другому. Если и кончится крахом - то для тебя, когда ты, по своей гордыне, откажешься". Он прервал себя. Я видела, теперь он жалеет о слове, вылетевшем воробьем. Цепляясь лапками, воробей прыгал вверх и вниз по голым оплетьям традесканций. Хмель проходил. Глядя на птичку, я усмехнулась. Отец Глеб не поднимал глаз.
"Я позвала вас для того, - я начала снова, угадывая его желание вернуться к началу, до выпорхнувшего воробья, - чтобы сказать: у меня пропал мешок, стоял у стенки за холодильником, вы случайно..." - склонив голову, я качала стаканом. "Мешок, я... почему? А что в этом?.." - он поддержал разговор с новой, вспыхнувшей радостью. "Ах, неважно, - я махнула рукой, еще больше пьянея, - но пока не найду, мне никак нельзя причащаться". Отец Глеб нахмурился. Кажется, и не допив, он порядком опьянел. Сетчатые белки наливались красноватым.
"Там, где вы служили, - я махнула рукой за реку, - что передают - в передачах?" Не удивившись, он перечислял, припоминая. "Вот, вот", - я кивала важно. "Так что же, этот мешок - туда? А - кто?.." - решительно он не мог взять в толк. Неверной рукой я отставила стакан. "Страшно не то, что вы чего-то не знаете, это бы еще - полбеды, страшно, что вы думаете, что знаете все, - язык заплетался. - Ну, ладно, - я поднялась и, зайдя за свой стул, взялась за спинку, - я расскажу вам, что в мешке, и если после этого вы ответите, что я сделаю, если найду его, я обещаю сгнить над колыбелью, как истинная и правильная... праведная... - теперь я взялась накрепко: - Если угадаете, даю слово - умереть". Шаткая спинка качнулась под руками. "Итак, легко и свободно, не цепляясь за оплетья, мой голос взлетал, как должен был взлетать его, скверный, тогда, на итальянской распевке: - Пара меховых варежек, чай и сахар, кусковой". Отец Глеб помолчал. "Ну, судя по твоим предыдущим словам, ты собрала передачу и понесешь", - свободной рукой он махнул в сторону, туда, где за Невой, невидный с темного пирса, лежал красноватый кирпичный крест, вывернутый к небесам. "Нет, - я сказала, - нет холодно", - и села за детский стол. "Ладно, сдаюсь, - отец Глеб произнес примирительно, - и что же ты сделаешь?" - "Выброшу в форточку, открою и выброшу", - я произнесла тихо и устало, так, что он не поверил.
Теперь, когда отец Глеб проспорил, я могла жить дальше. Чужая женщина, одетая в старое платье, найденное на помойке и пришедшееся впору, отступала спиной к двери, уходила от колыбели. Седые пряди ложились на старые щеки, выбивались из-под платка. Вглядевшись, я увидела - она ступает неверно. "Извините, наверное, мне надо что-то съесть", - обернувшись, я поглядела на официанта. Тот принял мой взгляд за обращение. Ожив и выйдя из-за стойки, он приблизился: "Будете заказывать?" - он держал согнутую руку, покрытую белой салфеткой, как на перевязи, как будто стоял передо мною с перебитой рукой. Ожидая, он переложил салфетку, заголив запястье. Синий размытый куполок, вытравленный на коже, мелькнул на мгновение, и, уловив, отец Глеб усмехнулся: "Ну вот, я не отгадал, может быть - он? Загадай ему". - "Слушаю", - лицо официанта напряглось и заострилось. "Скажите, у вас есть хлеб, просто хлеб, кусками?" - я думала о том, что ничего здешнего мне не проглотить. Кивнув, официант вернулся к стойке и принес три куска - на тарелке. Я потянулась за сумочкой. Он усмехнулся, махнул рукой.
"Ха, сейчас вспоминаю, однажды в университете мы с ребятами поспорили, кто сможет выхлебать тарелку крошеного хлеба, если залить водкой!" - отец Глеб покрутил головой. "Водкой или вином?" - я переспросила, косясь на горький остаток. "Водкой, водкой, представляешь, я один раскрошил, залил и выхлебал. С тех пор, вот, с трудом..." - он держал стакан осторожно, опасаясь давнего воспоминания о юношеском бессмысленном подвиге. "А как же, когда вам приходится потреблять, если остается от причастия?" Он смотрел, не понимая. Странная, растерянная улыбка проступила в лице, когда, осознав и соединив, отец Глеб дернул шеей совершенно так же, как дергал муж. "Зачем ты, а вдруг теперь я не смогу?" - он спрашивал беспомощно. Память о хлебе, выхлебанном с водкой, ходила горлом, вверх-вниз по кадыку, укрытому бородой.
Трезвая, я бы смолчала, но теперь, слизнув горькие капли, я заглянула прямо в сетчатые глаза. "Есть кое-что, в чем я не призналась на исповеди, то, ради чего я живу, ради чего стоит жить". Отец Глеб молчал настороженно. Красноватые сетчатые глаза собирались - набросить. Я рассказывала о том, что когда-то давно, в самом начале пути, когда мы, задернув шторы, принимали решение, муж рассказал мне об отце Валериане, о его маленьком храме, полном теплотой. Теплота облекалась в слова, напоенные правдой, и это - единственное, ради чего стоит городить. "Ты хочешь сказать, в этих словах - вся полнота, конечно, я понимаю..." - он откликнулся тихо и недоуменно.
"Нет, - я перебила решительно, - теперь, когда прошло время, я знаю другое. Может быть, вы и правы, называя смерть жизнью, потому что так - для вас. Для меня - по-другому. Люди не ворЛны - в одно перо не уродятся. Здесь, пока живу, полнота - многослойна. Нет теплоты без холода, сладости без горечи. Я это знаю потому, что слышу другие слова". Снова, как будто понимая, отец Глеб усмехнулся. В его усмешке просияла Митина ненависть - родовой признак поколения. "Это - бесовщина", - он дернул шеей, словно принял решение. Не отрывая глаз, я протянула руку и взялась за ломти.
Всеми пальцами, держа руки над тарелкой, я рвала хлеб в мелкие клочья и, дорвав, полила водкой, стоявшей в стакане. Отвратительный запах водочного крошева ударил в нос, и, обернувшись к стойке, за которой стоял официант, носивший травленую кожу, я спросила ложку. Официант приблизился и протянул. Примерившись, я черпнула поглубже и, не дыша, пихнула в рот полную. Обжигающая похлебка опалила внутренности и потекла мелкой, тлеющей дурнотой. Ложку за ложкой, почти не давясь, я носила в рот и, не дыша, загоняла в желудок, как загоняют свиней - в клеть. Проглотив последнюю, я оттолкнула. Наблюдавший из-за стойки присвистнул коротко.