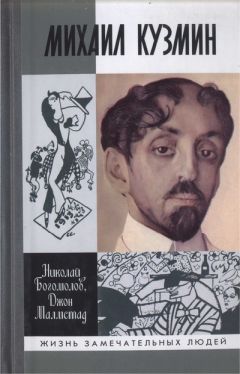— Да, это правда. И знаете что, Валентин Павлович? — я согласна отвечать на ваши чувства.
Акцизный был прав, что барышня Флегонтова ни с кем не была знакома, но в этом не было ни малейшей позы или какой-нибудь заносчивости. Как-то само так вышло, что Зоя Петровна жила «знатной иностранкой», довольствуясь домашним обществом и приезжими гостями.
Недалек он был от истины и называя ее «импульсом». Не только ему, но и Анастасии Романовне Кургановой, и часовщику Жасминеру, и уличным отрокам жизнь казалась гораздо интереснее во время пребывания за Волгой приезжей барышни. Кроме неминуемых сплетен и подробнейших изысканий, что стряпают у Флегонтовых, во что одевается Зоя Петровна, какие у нее гости и как кто к кому относится, собственные поступки казались значительнее, кровь обращалась быстрее и все чувствовали себя как на сцене, или как на станции во время остановки скорого поезда. Всем известно, как павлинятся друг перед другом в эти краткие минуты туземцы и перелетные гости, как хочется оставить след в путешествующей памяти наиболее выгодный для себя, наиболее едкий. И даже телеграфист особенным фертом вывернет локоть, пробегая по гулкой платформе, зная, что в запотелое окно «международного» смотрят скучающие (нарочно для него скучающие, он это чувствует, как собственный ферт) глаза траурной дамы. И траур для него; может быть, овдовела специально для него, как он для нее влюбился в епархиалку. И это не какой-нибудь там романтизм, пафос сословного расстояния, некрасовское «что ты жадно глядишь на дорогу», — а естественное чувство сцены, игры, что на тебя смотрят чужие глаза.
Обращала ли особенное внимание Флегонтова на углицких жителей, было неизвестно, но ее влияние отнюдь не прекращалось с ее исчезновением. Одна мысль, что за рекой вьется розовый флаг и дышит, двигается, существует Зоя Петровна, ускоряла пульс и заостряла всяческие интересы.
Уступим место Викентию Павловичу Шкафикову, совсем не похожему на шкаф.
Очень странные бывают вещи на свете. Пожалуй, я назвал бы себя несчастнейшим из смертных, если бы чувствовал себя несчастным. С Наташей-то… ничего не вышло. И опять из-за Зои Петровны, из-за г-жи Флегонтовой. Я думал, что все идет естественным своим течением, развивается чувство — и после Успеньева дня, как свойственно человеческой натуре, мы обвенчаемся. Ну, что такое Зоя Петровна? — Чужой человек, заволжская барышня, не детей с ней крестить, а вот она уехала — и Наташенька заскучала. Я бы на ее месте, в смысле ревности, радовался бы, что соблазну меньше, а она огорчилась. И очень даже заметно огорчилась. Даже не думает и скрывать. Раз как-то я прошу, чтобы ее же развлечь, спеть что-нибудь. Она взглянула на окно и говорит:
— Зачем же я буду теперь петь? Для кого?
— Для меня, Наташа. Разве вы для кого-нибудь другого прежде пели?
Она усмехнулась.
— Сама не знаю, для кого я пела. И вообще не знаю, кому нужно это мое пение.
— Зачем же впадать в такую мрачность? Мне оно нужно, а я вас люблю!
— Я совсем и забыла про это.
— Короткая у вас память, Наташа.
— Совсем и забыла про это и вам советую позабыть. Ведь это все глупости: нисколько я вас не люблю и не любила. Так, вроде как ветром нанесло. Пустяки это.
Первую минуту я думал, что пожар или гроза, или что я умираю, но сейчас же вижу, что Наташа будто бельмо с глаз сняла, самому мне меня же открыла. И что, действительно, и петь не для кого, да и любить не для кого. Сразу будто лампу унесли и темно стало. Скучно.
Я говорю:
— Благодарю вас, Наташа. Это для меня подарок.
— Я не виновата. Мне самой казалось, что я люблю вас. Я ошиблась.
— Да, пожалуйста, не извиняйтесь. Я ведь серьезно благодарил вас. Вы мне самому глаза открыли. И теперь я вижу, что и сам я нисколько вами заинтересован не был.
Наташа покраснела, но говорит:
— Вот видите, как хорошо все вышло.
Помолчав, будто повеселела.
— Ну, раз наш роман расстроился, давайте я вам спою, по-домашнему, не для публики.
И запела, плутовка, из Чайковского:
Забыть так скоро, Боже мой,
Все счастье жизни прожитой!
Углицкие мальчишки гурьбой купались, по привычке, как раз насупротив Флегонтовой дачи. Но ныряние не ладилось. Флага не было. Даже собаки не лаяли. Мальчишки — всегда мальчишки, и в конце концов возня и смех поднялись, но не было никакого шику — вдруг показать из воды розовую задницу перед самым барским балконом.
Из-за Волги все отлично слышно, но слушать-то нечего, только собаки лают. Розовый флаг не вьется.
Когда летнее облако рассеется, небо кажется пустым, лазурь — красной.
Если отвлечься мыслями от знаний и предрассудков, можно подумать, что неба нет, одно голубое ничто.
Пять разговоров и один случай
Начало случая.
Приезжий не знал, что его везут на улицу Смычки. Не знал этого и извозчик, чувствуя, что Смычкой скорее могут называться или отравляющие воздух папиросы, или младенцы женского пола, не свыше пятилетнего возраста, хотя и этих последних их толстомордые матери и сознательные отцы предпочитали называть Феями, Мадоннами и Нинель. Как бы то ни было, Виталий Нилыч Полухлебов был доставлен до места назначения. В заставленной шкапами и вешалками передней он снял котелок, и голова его оказалась необыкновенно похожей на ночную посуду без ручки. Сестра его, не обращая внимания на невинную неприятность его наружности, повела его в столовую, где уже кончали утренний кофей ее взрослые дети Павел и Соня. Багаж с наклейкой «Берлин» снесли в боковую комнату, назначенную для гостя. Приезжий говорил тихо и правильно, подбирая точные выражения, как иностранец, был почтенно вежлив и растерян.
§ 2. Первый разговор о мебели.
Впечатление тихого и какого-то домашнего неприличия, по-видимому, чувствовалось и домашними, так как иногда среди разговора они умолкали, тупились и краснели. Только Виталий Нилыч безоблачно журчал, не моргал и избегал менять выражение невыразительного лица. Он был хорошо вымыт и одет опрятно. В комнате было ужасно много мебели, будто ее снесли из трех квартир, и голоса не разносились в пространстве, а падали обратно, так что все говорили вполголоса. Впрочем, Полухлебов говорил тихо. В большой гостиной стиля Людовика XVI — 80-х годов камни, зеркала, рояль, портьеры, горки, бра, картины, ковры, пуфы, шелк, бронза, даже книги в переплетах Шнеля и Мейера. Светлый вечер, окна открыты. Красный дом напротив еще освещен. Виталий Нилыч, сестра его Анна Ниловна Конькова, ее дети, Павел Антоныч и Софья Антоновна. Возраст: 45, 50, 25 и 28. Старший брат и сестра говорят вполголоса. Младшие вообще молчат. Молодой человек покурил-покурил и ушел. Соня перебирает ноты у рояля, будто ей смертельно скучно. Пыль везде вытерта, но кажется, что все покрыто пылью, даже плешь Полухлебова.
В. К. Меня одно удивляет, хотя удивление вообще свидетельствует о некотором несовершенстве нашего мозгового аппарата. Так вот, меня удивляет несоответствие того, что я здесь нашел, с тем, что я ожидал встретить.
A. К. Я тебе не раз писала о наших делах.
В. К. Ну да, ну да, я по твоим письмам и судил, не по газетным же известиям. И я ожидал совсем другое.
А. К. Всего не напишешь, не передашь.
В. К. Совершенно верно. Но я удивлен, я был бы потрясен, если бы не был человеком тренированным.
А. К. Что же тебя так потрясает, если это не секрет?
В. К. Наоборот, я хочу разобраться в этом. Я колебался между ужасом и блестящей судьбою с нашей, ну понимаешь, нашей точки зрения. Я не нахожу ни того, ни другого, но заменена точка зрения.
А. К. Объяснись.
В. К. Вы не в блестящем и, конечно, не в ужасном положении, но в непонятном. У вас роскошная обстановка.
А. К. Она не наша.
B. К. Я вижу. В этом-то и дело. Чья же она?
А. К. Я уже не помню. Марголиных каких-то… прежних владельцев?
B. Н. Но вы ею пользуетесь?
A. Н. Очевидно. Теперь она считается нашей.
B. Н. Ты говоришь «считается». Кем?
А. Д. «Совхозом», «Жилтовариществом», «Домуправом», всеми учреждениями.
В. Н. Ну, этих новых слов я не понимаю. А вами? тобою?
A. Н. В конце концов и нами.
B. Н. Но ведь она не ваша. Ты ее не купила и не получила в наследство.
(Соня совсем увяла за своими нотами и через секунду уйдет).
В. Я. И тебе не противно жить в чужих вещах?
A. Н. Живут же люди в гостиницах.
B. Н. Там безлично, для всех, а тут есть остаток, флюиды этих Марголиных, ну, прежних-то.
A. Н. Конечно, ты прав, Виталий. Может быть, и мне было противно, особенно когда я нашла в шкапу связку их писем… Потом привыкла. Что ты хочешь?