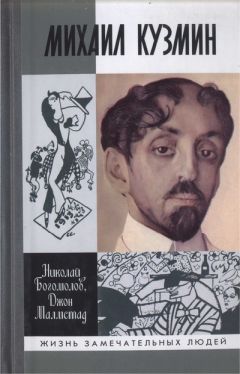§ 6. 3-й разговор о разогретом.
Когда при рассказах о Клавдии Кузьмиче в присутствии В. Н. доходили до эпизода, считавшегося высшей точкой, всем становилось неловко, кроме Полухлебова. Дело в том, что во времена голода и холода Клавдий Кузьмич по утрам должен был разогревать свой ночной горшок с содержимым на той же печурке, где варил себе кашицу, и нести его с пятого этажа на двор. А Клавдий Кузьмич был человеком уважаемым и профессором. Доведя героя до этого последнего испытания, все взглядывали на голову Виталия Нилыча и умолкали, а тот начинал обобщать факты. Чаще всего собеседником его была Анна Ниловна. Полухлебов, не стараясь придать значительности роковой своей наружности, говорил как дипломат.
В. К. Не надо увлекаться героизацией.
А. К. Но это и в самом деле ужасно. Ты не испытал на себе этих лет и не можешь судить. Люди были жалки, противны, смешны, если хочешь, но если со стороны, конечно, они были героями.
В. К. Я не перестану повторять, что русская интеллигенция вела себя позорно, позорно.
А. К. Очень ответственно так говорить. И потом проделывать вот такие скаредные и комические вещи, м. б., труднее, чем встать к стенке, тем более что добровольно на смерть никто не шел.
В. К. Но все-таки дело шло о жизни.
А. К. В то время у нас переменились все мерки, исчез весь стыд и общество, условности, остались примитивнейшие потребности, очень простые, м. б., не всегда благовидные в другое время. Я не знаю. Теперь опять понемногу все чувства возвращаются, но не знаю, во всей ли полноте. Все это исчезло навсегда. Посмотрел бы ты, как мы тогда одевались! Прямо Наполеоновская армия в 1812 году, у того же Клавдия Кузьмича (уж и костюм) костюм был сшит из диванной материи с яркими розами. Очки, мягкая шляпа, валенки и откуда-то реставрированный плед.
В. Н. потрясен более, чем случаем с разогретым горшком, но не хочет сдаваться, думая о Шарлоттенбурге, где такие пассажи как будто немыслимы. Это его успокаивает.
§ 7. Не относящееся к случаю.
Соня зашла в узенькую каморку Фомы, чтобы спросить его, почему он оставляет мыло на мокром умывальнике. День был серый и понедельник. Мальчишка в ответ больно схватил ее за грудь. С. А. знала, что в квартире никого нет, и как-то очень быстро сообразила, что с Фомой, пожалуй, ничего не поделаешь. Нахмурившись и подделываясь под его язык, она крикнула:
— Брось хвататься!
Но Фома, не выпуская груди, плотно налег на нее, причем Соня почувствовала, что он развит не по летам. Он начал сопеть и тормошиться, другой рукой отыскивая крючки и пуговицы.
— Чего тебе там надо?
— Что же, через платье, что ли?
Чтобы не показаться смешной, она сама спустила юбки и отбросила их ногою. Они показались ей ужасно жалкими и неприличными. Фома все сопел. Ему неудобно было действовать одной рукой, другая как клещ впилась в груди, как-то в обе зараз.
С. А. не испытывала никакого эротизма, но, разглядывая близко сладкий рот и нахмуренный лоб Фомы, она вдруг прижалась к мальчику. Часы пробили два.
Она думала, что вот он сейчас будет изображать мужчину. Тот, действительно, встал, оправился и закурил. Инстинктивно С. А. воскликнула:
— Это еще что! Брось папиросу сейчас же.
Хотя она была в одних кальсонах, Фома послушался. Но, одеваясь, она еще строже заметила:
— Завтра в десять диктоваться будем.
Неизвестно, что мальчик подумал, только он улыбнулся и проговорил не без фатовства:
— Полтинник дадите, так буду диктоваться.
— Пошел вон. Видишь, я не одета.
Это уже совсем привело Фомку в хорошее настроение.
§ 8. 4-ый разговор об идеях.
Неизвестно чья комната. Просторно и светло. Голоса перебивают друг друга все об одном, получается вроде монолога. Слух Полухлебова, м. б., невидимо присутствует.
— Всему свой час.
— Идеи бесплодны. Оплодотворить их можно только эмоцией. Или поддерживать административно. Мы пережили все этапы. Обреченное бесплодие социализма; эмоциональность солдатских лиц при вести об окончании войны. Эмоционализм героизма и Асейдоры Дункан. Отупение реакций, потеря минутных чувств и прежних устоев. Недостаток новый и административное подогревание (даже не восторг).
Дух В. Н. думает о случае с Клавдием Кузьмичом.
Фиксирование переходного состояния.
Тупик. Даже не ужас. Обездушенье и полная бездарность, утверждение бездарности и духовного невежества. Никто не верит. Судьба — быть изблеванным жизнью и природой.
Голоса разом смолкают, и раздается музыка, тоже светлая и просторная. В. Н., в поисках рациональных объяснений, думает, что он видит сон. Сну же позволительно быть и нелепым.
§ 9. Не относящееся к делу.
Роза Шнееблюм сегодня по-особенному собиралась слушать радио.
Она целый день волновалась, получив утром через таинственного посла странную посылку: две разные запонки; голубую с серым и желтую с черным. Роза придала этому значение сигнала. Ходила, напевала, оживленно щебетала в телефон, побрякивая запонками в руке. Пересидела папу и маму. Оделась элегантно в парижское черное платье с розовыми полосками из лакированной кожи, переждала глупейшие частушки с Песочной, от которых никак не отвязаться, визги и стоны атмосферического пространства, вопли телеграмм, московские балалайки, газеты, лондонские баллады. Наконец настала теплая тишина. Все спят. Роза прошла в свою комнату, принесла вымытую морковку и стакан с водою, уселась комфортно на мягком диване. Тихо и рождественски поют фокстроты, словно благожелательные лилипуты. Погладила морковку, поцеловала запонки, перевела на Берлин. Пойте, пойте, м. б., звук аплодисментов заглушает их голоса. Вспоминает ли ее, ее деньги, по крайней мере? Глаза Розы подернулись влагой, морковки не видно. Еще, еще! скоро музыка прекратится. Левой рукой берет она стакан, секунду смотрит на него, пьет и устраивается поудобнее на диване, не снимая с ушей трубок. Пойте, пойте, пока я не сплю. Какой розовый свет от лампочки!
Ида Марковна вскрикнула не своим голосом, дотронувшись до холодной руки Розы. Доктора исследовали остатки жидкости в стакане, ломали голову над происхождением двух разных запонок, но о существовании морковки никто даже не предполагал.
§ 10. Конец случая.
В. Н. никак не мог перестать удивляться. Не будучи в состоянии никуда себя пристроить, он изнывал и стал поговаривать об отъезде.
С. А. последнее время заметно оживилась. Она будто не смотрела в будущее. Положим, она и раньше в него не заглядывала, а то, пожалуй, повесилась бы. Теперь она не повесилась бы, но если бы рассудила логически о своей судьбе, м. б., утопилась бы. К счастью, она освободилась от логики.
Фома перестал оставлять мыло на мокром умывальнике, каждый день диктовался и даже дал доказательство русского гения и изобретательности. Он целиком склеил разбитую им чашку. Соня с торжеством вынесла ее в столовую и поставила перед В. Н. Тот первый обратил внимание на особенность работы Хованько. Дело в том, что, составляя в точности прежнюю сторону чашки, Фома так склеил куски, что барабанщик оказался сидящим на бюсте Жозефины. У императрицы вместо головы торчал барабан, а лицо ее пропало бесследно. Все переглянулись.
— Но это еще труднее было сделать, не нарушая фасона, — защищала С. А. своего ученика.
— Да, но это нелепо и безобразно, как ты этого не понимаешь? И так во всем. Это же доказательство. Вообще, я очень рад, что завтра еду. Я вам не ко двору, а если б и пристроился куда-нибудь, так это было бы вроде барабана вместо головы императрицы. Или вы все с ума сошли, или я сумасшедший. Я чувствую себя самым глупым образом, как какая-нибудь пария или идиот, или еще хуже… я уж не знаю, с чем сравнить, как какой-нибудь… Тургенев.
— Это уже прогресс! — заметила Соня, но Полухлебов замахал на нее руками.
(кафельные пейзажи) 1. Несчастная
Хижина. Или, лучше сказать, лачуга. Убогое пристанище. По стенам открытки, из-за них клопы выглядывают. Смотрят они на несчастную девушку. Она стриженая, горько плачет, и зовут ее Элеонора. Плачет от сердца, не для показу; все равно никто не видит. Клоп — тот и в суде не свидетель. Вдруг несчастная схватывает левою рукою лежащую перед ней мужскую бритву, а правой пишет на разорванном конверте: «Сволочь, мерзавец, я ли тебе не давала, пивом не поила…» Затуманенные глаза не могут следить за прерывистой строчкой. Часы у соседей пробили двенадцать. Элеонора поставила зеркало на пол, приладила огарок, разделась и начала брить лобок. Бреет и плачет, плачет и бреет. Время от времени приговаривает: «Я ли тебе не давала, пивом не поила», — словно язык ее отучился от других речений. Кончила. Зеркало отражает, что ему полагается. Всплеснула руками, и даже рассмеялась: