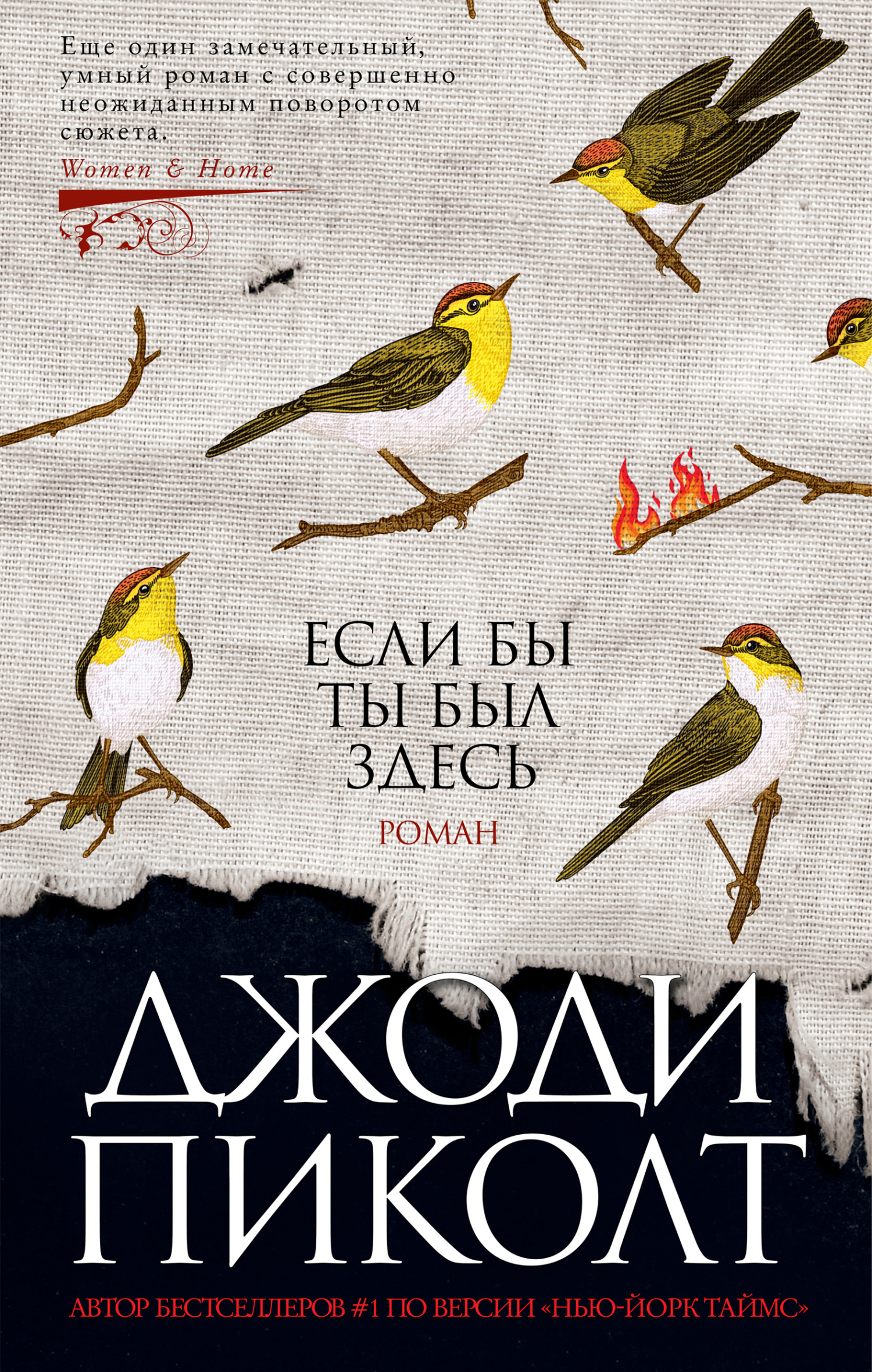рта Джесса вылетает сизая струйка дыма. Интересно, он когда-нибудь ходил на яхте? Есть ли у него воспоминание, которое он хранит долгие годы, например о том, как сидит на лужайке перед домом Четвертого июля, чувствуя, как холодеет трава после захода солнца, и держит в руке бенгальский огонь, пока ему не начинает жечь пальцы. У нас у всех есть что-то в памяти.
Через семнадцать дней после выпускного она оставила записку под дворником на ветровом стекле моего джипа. Не успев развернуть листок, я подумал: как она добралась до Ньюпорта и как вернулась? Я отнес записку к заливу и прочитал, сидя на камнях, а после этого поднес листок к лицу и принюхался. Вдруг он пахнет ею?
Формально мне было нельзя водить машину, но это не имело значения. Мы встретились, как было сказано в записке, на кладбище.
Джулия сидела перед могильным камнем, обхватив руками колени. Заметив меня, она подняла взгляд:
— Я хотела, чтобы ты был другим.
— Джулия, это не ты.
— Нет? — Она встала. — У меня нет доверительного фонда, Кэмпбелл. Мой отец не владеет яхтой. Если ты в те дни складывал крестом пальцы в надежде, что я превращусь в Золушку, значит ты все себе напридумывал.
— Ничто из этого меня не волнует.
— Ложь! — Она прищурила глаза. — Ты думал, будет весело шататься по трущобам? Ты сделал это назло родителям? А теперь можешь соскрести меня с подошвы своего ботинка, как случайно раздавленного жука? — Она бросается на меня и ударяет в грудь. — Ты мне не нужен. И никогда не был нужен.
— Ну а я, черт возьми, нуждался в тебе! — кричу я ей в ответ.
Когда она поворачивается, я хватаю ее за плечи и целую. Я собрал все то, что не мог сказать вслух, и влил в нее поцелуем.
Некоторые поступки мы совершаем, потому что убедили себя: так будет лучше для всех. Мы говорим себе, что это правильно, альтруистично. Так ведь гораздо проще, чем сказать правду.
Я оттолкнул Джулию. Спустился с кладбищенского холма. Не оглянулся.
Анна сидит на пассажирском сиденье, что не слишком нравится Джаджу. Пес высовывает печальную морду вперед, прямо между нами, и дышит так тяжко, что от его вздохов поднимается маленький шторм.
— Сегодняшние события не предвещают ничего особенно хорошего, — говорю я.
— О чем вы?
— Если ты хочешь получить право на принятие важных решений, Анна, тогда нужно начинать делать это прямо сейчас, а не рассчитывать, что весь остальной мир будет подчищать за тобой.
Она хмуро глядит на меня:
— Это все из-за того, что я позвонила вам и попросила помочь брату? Я думала, вы мне друг.
— Я уже говорил тебе однажды, что я тебе не друг. Я твой адвокат. Это в корне разные вещи.
— Ясно. — Она возится с замком. — Я пойду в полицию и скажу, чтобы они снова арестовали Джесса. — Ей почти удается открыть дверцу машины, хотя мы мчимся по шоссе.
Я хватаюсь за ручку и захлопываю дверь.
— Ты спятила?
— Не знаю, — отвечает она. — Я бы спросила ваше мнение на этот счет, но, вероятно, такие разговоры не входят в ваши обязанности.
Резко повернув руль, я останавливаю машину на обочине.
— Знаешь, что я думаю? Никто никогда не интересовался твоим мнением по важным вопросам, потому что ты слишком часто меняешь эти свои мнения, люди просто не понимают, какому из них верить. Я даже не знаю, продолжаем ли мы ходатайствовать перед судом о медицинской эмансипации или уже нет?
— А почему нет?
— Спроси свою мать. Спроси Джулию. Каждый раз, как я появляюсь, кто-нибудь сообщает мне, что ты больше не хочешь проходить через все это. — Я смотрю на подлокотник, где лежит рука Анны — фиолетовый лак с блестками, ногти обкусаны до мяса. — Если ты рассчитываешь, что суд отнесется к тебе как к взрослому человеку, надо начать вести себя соответственно. Я смогу бороться за тебя, Анна, но только в том случае, если ты докажешь всем, что способна сама за себя постоять, когда меня не будет рядом.
Я снова выруливаю на дорогу и искоса смотрю на девочку. Она сидит, засунув руки между бедрами, взгляд упрямо устремлен вперед.
— Мы почти у твоего дома, — сухо говорю я. — Можешь выйти и хорошенько хлопнуть дверью перед моим носом.
— Мы не поедем ко мне домой. Мне нужно попасть на пожарную станцию. Мы с отцом пока живем там.
— Мне почудилось или я не для этого провел вчера пару часов в суде по семейным делам, отстаивая примерно такое предложение? К тому же ты, кажется, сказала Джулии, что не желаешь разлучаться со своей матерью? Вот именно об этом я и говорю, Анна, — завершаю я, ударяя рукой по рулю. — Чего ты, черт возьми, хочешь на самом деле?!
Она хмыкает, и это предвещает бурю.
— Вы спрашиваете, чего я хочу? Мне надело быть морской свинкой. Надоело, что меня никто не спрашивает, как я ко всему этому отношусь. Мне надоело, но меня никогда не будет достаточно сильно воротить от этой гребаной семейки. — Она на ходу открывает дверь и мчится к пожарной станции, до которой еще несколько сотен футов.
Ну что же… Где-то в глубинах существа моей юной клиентки коренится способность заставлять людей себя слушать. Это означает, что на суде она будет отвечать лучше, чем я думал.
А после этой мысли является другая: Анна, может, и даст показания, но то, что она сказала, делает ее несимпатичной. Показывает ее незрелость. Иными словами, снижает вероятность того, что судья вынесет решение в ее пользу.
Огонь и надежда связаны, не забывайте. Греки выразили это так: Зевс поручил Прометею и Эпиметею создать жизнь на земле. Эпиметей сотворил животных, раздав бонусы вроде быстроты, силы, меха и крыльев. К тому моменту, когда Прометей взялся за человека, все лучшие качества были распределены. Он сделал людей прямоходящими и дал им огонь.
Разгневанный Зевс отнял у людей огонь. Но Прометей увидел, что сотворенные им существа, его радость и гордость, дрожат от холода и не способны приготовить себе еду. Он зажег факел от солнца и принес его людям. В наказание за это Зевс приковал Прометея цепями к скале, где орел питался его печенью. Чтобы наказать человека, Зевс создал первую женщину — Пандору — и одарил ее шкатулкой, которую запретил открывать.
Пандора не совладала с любопытством и однажды открыла чудесную шкатулку. Оттуда вышли болезни, бедность и несчастья. Ей удалось закрыть крышку, пока из нее не ускользнула надежда. Это