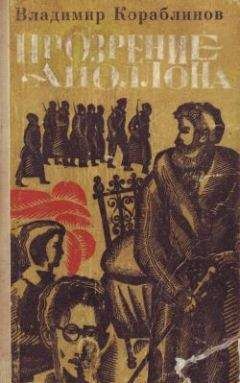Причин же, по каким М. Л. находился в особенно хорошем настроении, было несколько. Первейшая из них заключалась в том, что наконец-то вместо неинтересного, пустого и убыточного жильца, платившего ничего не стоящими бумажками, Денис Денисычеву квартиру занял человек положительный и достойный, некто Дидяев, который обязался производить расчет дровами и сахарином. Отличный березовый полуаршинный швырок в количестве двух кубических саженей уже находился в крепком пыжовском сарае; первый взнос сахарина Пыжиха пустила на приготовление семи фунтов железной твердости маковых жамок, каковые в данную минуту М. Л., перестилая бумажками, укладывал в специальный чемоданишко. Война утихла, и можно было, благословясь, в толчее вокзальной площади начинать свою мелочную торговлишку, которая, ежели по правде, особых барышей не приносила, но иной раз давала возможность из пестрого потока спешащих, мечущихся дорожных людей выудить за бесценок кое-что, на чем можно было и поживиться.
Существовали и другие причины хорошего настроения М. Л. Пыжова. Похоронив Легенину старушку, он, пользуясь одинокостью Дениса Денисыча, произвел тщательное обследование его имущества. Против ожидания, он ничего стоящего не нашел у этой «музейной крысы». Мебелишка была старая, побитая шашелем; в многочисленных шкатулочках и укладках хранилась сущая дребедень: крохотные нарисованные на эмали портретики каких-то расфуфыренных дам и господ в париках с косичками, фарфоровые безделушки да с десяток икон такой черноты, такой безнадежной ветхости, что на растопку разве только…
Из предметов порядочных, полезных один лишь ковер турецкого тканья и старинные трехпудовые стоячие, в виде башни, часы, «кутафья», привлекли внимание Пыжова. Эти вещи тотчас перекочевали на половину М. Л. и до поры до времени приютились среди прочего пыжовского добра, ожидая выгодного покупателя. Да еще весь бумажный хлам из легенинской рухляди прихватил М. Л., сообразив, что годится на завертки в его мелком торговом предприятии.
Он ни минуты не думал, что совершает кражу – боже избавь! – вещички эти Денис Денисычевы засчитывались им как бы в возмещение расходов на похороны старушки Матвевнушки…
Уложив товар в торговый чемоданишко и приодевшись в затрапезную сиротскую одежонку, чтоб в случае чего, ежели сцапает милиция, разжалобить нищенским своим положением, совсем уж было собрался М. Л. идти со двора, как послышался робкий стук в дверь, да и не стук даже, а что-то вроде царапанья собачьего. Никто никогда не захаживал к Пыжову, чаев-разносолов он не водил ни с кем, и ежели кто и стучался ненароком в его обитую черной клеенкой дверь, так это нищие-побирушки, которых М. Л., сказать кстати, терпеть не мог.
Ну, конечно, побирушка!
Стоял на пороге щуплый мальчонка в каком-то немыслимом, подпоясанном солдатским ремнем капоте, в залатанных сапожишках, с котомочкой жалкой за плечами, держа в руках странный предмет – папку не папку, нечто вроде футляра из двух фанерных дощечек, аккуратно перевязанных бечевкой. Заячий, неумелой, видно, рукой сшитый малахай был великоват, наползал на глаза, светящиеся так доверчиво и кротко, что даже будто бы сиянье, исходило от некрасивого, исковырянного оспой лица нищего мальчонки.
– Проходи, проходи! – занудливым голосом закричал Пыжов. – Эка шляются тут бездомовники…
– Да нет, – тихо сказал мальчонка, – вы не подумайте… Я вот что…
И протянул бумажный листок, на котором рукою Дениса Денисыча начертано было: «Сапожный пер, д. № 15, Легеня Д. Д.».
– Ну-у? – удивленно воззрился Пыжов. – Это на что же тебе покойник-то понадобился?
Мальчонка вытянул шею, весь напрягся, вслушиваясь в слова Пыжова.
– Погромче, – сказал, – а то я с приглушью…
– Нету, говорю, такого, – повысил голос Пыжов. – Померши они.
И, обозлясь вдруг, что вредный же человек этот Легеня, и после смерти ему докучает, замахал руками на малого:
– Иди, иди! Некогда мне тут с тобой растабарывать!
Вытеснив его с порога, захлопнул дверь на аглиц-кий самозакрывающийся замок и, все бурча сердито, не добром поминая Дениса Денисыча, поплелся на вокзальную площадь торговать крепчайшим самосадом и не очень сладкими, на дидяевском сахарине, маковниками
Путь был не близкий. Пока шел – осень кончилась, пришла зима, замелькали, зароились белые мухи, и все гуще да гуще падали сухие колючие снежинки, откуда ни возьмись, взаправдашняя метелица закружила, да так, что – пришел на вокзальную площадь, а она вся белая, и черные люди на ней видны далеко и отчетливо, как вороны на снегу. «Это ни к чертовой, матери! – подумал Пыжов. – Сейчас проклятый снегирь возьмет на заметку…»
Но все обошлось благополучно, милиция не показывалась, и Пыжов, хотя и не без оглядки, конечно, дерзко примостился возле самых вокзальных дверей и торговал бойко, даже и не зазывая: покупатель нынче пер дуром, М. Л. только успевал отмеривать стаканами махру да культурно заворачивать черные, липкие маковники в аккуратные, правда исписанные, бумажки, вырванные из Денис Денисычевых тетрадок.
А метелица все шутила и пошучивала, прохладно становилось, сиротская одежонка не грела. И уже подумывал М. Л. сворачивать лавочку, топать до хаты, к Пыжихе, предвкушая комнатное тепло и смачный, парной дух суточного борща, как подковылял к нему на костыле бородатый красноармеец, раздевши, в одной гимнастерке, видно, из вагона только выскочил – поискать чего-нибудь из съестного. Но никого из торгашей уже не было у вокзала, один Пыжов от жадности непомерной держался в такую стынь; да и у него всего лишь с десяток маковников оставалось в чемоданишке.
– Давай их сюда! – обрадованно воскликнул красноармеец.
И пока Пыжов озябшими пальцами завертывал в тетрадочный листок последние маковники, бородач успел рассказать, что бывал уж тут, в этом городе, с месяц стоял весной на постое «у ограмадного тутошнего профессора», а теперь отвоевался, стал быть, едет домой по чистой по причине перебитой в коленке ноги; что «баба дома-то уже, поди, в отделку заждалась… Да, впрочем, баба – что, дерьмо, хотя и без них, паскуд, не проживешь… но главная вещь – деточки, и надо же им какого-никакого гостинчика привезть, а то ждут же папашку-то…»
И хотя сроду не бывало детей у Пыжова, а Пыжиху свою он и вовсе за человека не считал, тем не менее, из уважения к покупателю, поддакнул бородатому вояке насчет деточек и даже пожелал ему счастливой дороги и полного семейного благополучия.
Четыре долгих года топтал мужик землю, в какие дали ни закидывала его солдатская дорога, три пары сапог истрепал, седина прошила бороду белыми прочными нитками, а дня такого не было, чтобы хоть разок, хоть во сне не вспомнил бы родимую свою деревню Темрюково, весенний свист птички иванка, мирный дымок из черепянной трубы, веселые звонки играющих детей…
Но чаще всего детей вспоминал, как, придет денек, встретится с ними, как из вещевого мешка гостинец достанет, порадует. Да только вот время такое – война, скудость в харчах, обнищание людей… Какие гостинцы! В городе Ростове, в развалинах разбитого дома, подобрал жестяную коробку из-под чая, ярко, пестро разрисованную потешными фигурками китайцев, да в конторе разгромленного беляками какого-то учреждения – хитрую железную машинку, пробивающую дырки в бумаге, и все сложил в мешок – на гостинцы.
Нынче у вокзала маковых жамок прикупил, и в самый раз пришлась коробка с китайцами. Вернувшись в вагон, переложил маковники из бумажки в коробку и порадовался: эх, мать честная, теперь вот гостинец форменный!
Бумажку же, в какую Пыжов завернул ему покупку, расправил, разгладил ладонью и, как место его в битком, ровно селедками, набитом вагоне приходилось на самом верхотурье, у фонаря, приладился со скуки дорожной разбирать то, что было написано. Он сперва полагал, что это какая-нибудь приходо-расходная волокита, конторская бумажонка, какие во множестве, носимые ветрами, валялись на улицах городов по причине разгрома беляками ненавистных им советских учреждений. Но, усмотрев среди слов восклицательный знак, «нет, – подумал, – не волокита, та без восклицательных живет…».
Поезд полз не спеша, хоть пешком рядом иди, подолгу стоял на станциях, а то и на перегонах, в степи. Делать было решительно нечего, все спали кругом, а ему спать не хотелось ни капельки, потому что путь его подходил к концу. И так, с трудом, при скудном свете догорающего, вот-вот норовящего погаснуть огарка, он прочел следующее.
«…От погибели в едином шаге пребывал. Но все прошло, все позади осталось. И вот, одолев препоны, стоял на высоком холме родного Татинца, где некогда капище Телигино щерилось конскими черепами, из-за коих мертвыми деревянными очами глядели идолы…
Ныне тут хоромина высилась – низ о четырех, верх об осьми углах, и пять шеломов, что пятеро богатырей, над причудливой кровлей – один посередке, другие по сторонам. И кресты позлащенные, числом также пять, на каждый шелом по кресту, мерцали в низком предзимнем небе.