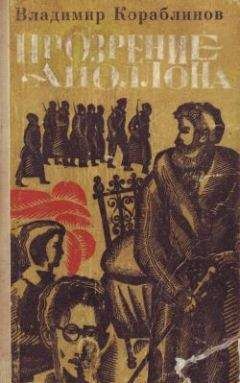Поезд полз не спеша, хоть пешком рядом иди, подолгу стоял на станциях, а то и на перегонах, в степи. Делать было решительно нечего, все спали кругом, а ему спать не хотелось ни капельки, потому что путь его подходил к концу. И так, с трудом, при скудном свете догорающего, вот-вот норовящего погаснуть огарка, он прочел следующее.
«…От погибели в едином шаге пребывал. Но все прошло, все позади осталось. И вот, одолев препоны, стоял на высоком холме родного Татинца, где некогда капище Телигино щерилось конскими черепами, из-за коих мертвыми деревянными очами глядели идолы…
Ныне тут хоромина высилась – низ о четырех, верх об осьми углах, и пять шеломов, что пятеро богатырей, над причудливой кровлей – один посередке, другие по сторонам. И кресты позлащенные, числом также пять, на каждый шелом по кресту, мерцали в низком предзимнем небе.
А вдали город был – знакомые стены, сизые дымы из татинецких очагов – родина, какой ничего нет краше и желанней…»
«Ах, и беспокойная ж наша русская нация! – подумал красный боец, аккуратно складывая прочитанную бумажку и пряча ее в карман гимнастерки. – Все ходим, все мечемся… Но родину, пепелищу родную никогда не забываем…»
Ему не спалось, раненая нога мозжила в коленке, к непогоде. За окошком вагона постанывало, поохивало, посвистывало. Октябрь гулял по степи, справлял свое дело.
Да и какой сон, когда до желанного Темрюкова с десяток лишь верст оставалось, и такой близкой мнилась встреча с женой, с детьми… В воображении рисовал себе, как старый Валет сперва не узнает, забрешет сипло, простуженно, как на чужого, а потом с радостным визгом станет кидаться на грудь, норовя лизнуть в лицо. «Да жив ли еще и Валет-то? – вздохнул красноармеец. – Ведь эка сколько годов утекло!»
И тут свечной огарок в фонаре пыхнул и погас. И сразу, с ходу поезд, резко затормозив, остановился. Все повскакали с мест, загалдели.
– Станция Березай, кому надо вылезай! – дурашливо, протодьяконским басом возгласил кто-то во тьме.
И прежде не раз этак же случалось останавливаться средь поля, от плохого топлива стыли котлы, но сейчас, кажется, не в котлах было дело. Привычным ухом, сквозь лязг буферов и галдеж встревоженных пассажиров, красноармеец уловил негромкие револьверные щелчки. Вдоль вагонов бежали, кричали люди. Бухнула дверь – и яркий свет резанул в глаза.
– Спо-кой-на-а! – тенористо крикнул вошедший в вагон человек с фонарем. – Без паники чтобы… Какая есть у кого золотишко… ай что из ценностев, прошу сдать немедленно! Под расписку, ясно дело… Симка! Пиши фитанец: кольцо золотое… Но-но! Сымай, сымай, папаша, а то с пальцем оторву!
Женщина завизжала: «Бандиты! Изверги!»
– Ну, цяво, цяво! – гугняво прикрикнул тенористый. – Не режут тебя ж то…
– Да нето Алешка? – свесив с полки головую всматривался красноармеец. – Алешка и есть…. Эй! Слышь… предводитель!
Задрав голову, Алексей Иваныч глядел наверх – кто это его окликнул.
– Суседа не признаешь? – насмешливо продолжал красноармеец, выпрастывая костыль. – В бандюги, стал быть, заделался? Ай, страм-то какой…
– Кто за целовек? – бешено крикнул Гундырь.
– Сволочь гнилая! – сквозь зубы, задыхаясь, сказал красноармеец. – Это в ту пору, стал быть… как мы ежечасно жизню свою за мировую революцию не жалели… Так на ж тебе, гадюка!
Костыль, скользнув по плечу Алексея Иваныча, грохнулся об пол.
– А-а… – тихо, ласково протянул Гундырь. – Во-он оно, значится, кто ты есть… Ну, с приездом, с приездом, сваток… со счастливым возвращеньицем!
И, не целясь, из крохотного офицерского браунинга, всадил в земляка четыре пули.
Рудольф Григорьич Лебрен, свободный художник, потрясатель классического искусства, длительное время находился в запое. Это началось у него аккурат в тот веселый, ликующий день, когда генеральские войска победоносно входили в город. Зная, какие опасные неприятности подстерегают еврея при встречах с белым, зачастую нетрезвым, офицерством, он спешно покинул свою большую и неуютную комнату в доме вдовы Кусихиной и с центральной, Венецианской улицы перебрался на окраинную, сонную Старо-Посадскую, в столярную мастерскую своего друга, делателя гробов Бимбалова. «Живи, Григорьич, сколько тебе влезет!» – радушно сказал гробовщик и поселил Лебрена в самом лучшем, разделанном под красное дерево гробу.
Предавшись хмельному пороку, они до того погрузились в веселые сумерки денно-нощного опьянения, что лишь недели две спустя после освобождения города, кряхтя и стеная, вылезли на свет божий. Ох, как мрачен, неприютен показался им этот свет… Холодный дождь перешел в снег; невылазная грязь Старо-Посадской улицы, хоть и припудрилась, принарядилась в белое, но все так же цепко хватала прохожих за ноги, пыталась стащить с них плохонькую, поистрепавшуюся обувку. И тощие взлохмаченные вороны орали, терзая сердце своими хриплыми воплями.
Стоя у калитки, друзья остекленело таращились на холодную, равнодушную природу и, медленно шевеля очумелыми мозгами, смутно соображали, чем же теперь им заняться.
– Слушай… а может, они еще тут? – трудно ворочая языком – так хотелось пить, – сказал Лебрен. – Может, еще не кончилось?
– Не, я у Аниски спрашивал, грит, еще двадцатого прогнали… прошлого, грит, месяца…
– А нынче какое число?
– Нынче-то? – задумался гробовщик. – Да шут его знает, надо быть – октября какое-то… Ишь, погодка.
Постояли, поежились, помолчали.
– Ну, видно, спать пойду, – сказал гробовщик. – Держи, Григорьич…
Он вяло пожал Лебренову руку и скрылся в калитке. Рудольф сказал: «бр-рр-р!» – и, тяжко вздохнув, пошел куда глаза глядели. Шлепая по старопосадской грязи, с трудом выпрастывая нарядные когда-то баретки из хляби земной, размышлял о пустоте и бесполезности своей жизни. Он, правду сказать, не любил эти мысли, внутренне протестовал, но неуютная природа располагала к ним, наталкивала на них. В эти неприятные минуты почти трезвых рассуждений понимал, отчетливо видел, что он никакой не артист, не художник, а лишь подделка, фальшивка, говорун, терпимый, а иногда, может быть, даже необходимо нужный в нынешнее суматошное время еще мало чему научившегося детства Республики… За эти неполные два года Советской власти он привык возглавлять Искусство и руководить им. Такая роль ему нравилась: помимо житейского приварка это тешило самолюбие. Но настанет время – и нынешняя действительность вырастет из детских штанишек, его юные воспитанники «вольные скоморохи» сделаются взрослыми, и что тогда? Что?..
Что!!!
С такими послезапойными безжалостными мыслями Рудольф Григорьич выходит на бульвар и останавливается, потрясенный: серебряная парча покрывает деревья, белый кисейный занавес колеблется, готовый вот-вот взлететь вверх, к колосникам сцены, и – вот он, первый акт или даже пролог великой, чуточку сентиментальный, поэтической драмы наших дней: на засыпанной мокрым снегом скамейке – тонкий, трогательный силуэт беспризорника…
Нет, что ни говорите, а жил все-таки в Лебрене художник!
– Что с тобой, мой маленький Тэдди? – с участием, но уже привычно актерничая, спросил Лебрен, наклоняясь над мальчиком.
Тот не шевельнулся. Снеговые лепешки лежали на плечах его одежонки, на котомке, на заячьем малахае. Казалось, тоненький ручеек жизни мальчика иссяк и бедный страдалец уже где-то там, за тяжелыми снежными облаками, высоко над грешной землей…
Рудольф Григорьич враз протрезвел.
– Слушай, ты… Слушай! – бормотал он, тормоша малого, сбивая снег с его ватного капота. – Ты слышишь меня? Ну, отвечай же! Ну… Слышишь?
– Слышу, – глухо сказал Павлин. – Вы, дяденька, не думайте, я не помер…
– Фу черт! – Лебрен устало плюхнулся на скамейку. – Ну, ты и напугал же меня, босявка… Откуда ты взялся, Джонни?
– Погромче говорите, – сказал Павлин, – а то я с приглушью.
– Откуда ты? – заорал Лебрен. – С неба свалился?
– Зачем с неба, – улыбнулся Павлин. – Я из Камлыка приехал.
– Кам… лык? Это что? На луне королевство такое? И ты – наследный принц Камлыцкий, не так ли?
Павлин понял игру, она ему понравилась. Тут, в городе, все были какие-то скучные, злые. А этот – нет. Веселый. У него и одежа смешная, клетчатая… И – глянь – глянь! – очки вынул на палочке, смотрит…
– Нет, серьезно, – сказал Лебрен, оглядев Павлина в лорнет. – Кто ты? Судя по всему, не беспризорник. Мешочник? За хлебом?
Павлин молчал, улыбался, мотал головой.
– Каррамба! Да это же ведь так просто! Учиться приехал? Да? И тебе негде переночевать?
– Да переночевать-то что, – печально сказал Павлин. – Переночевать я и на вокзале переночую… Тут вон ведь что…
И он поведал Лебрену о своей коротенькой жизни, о нечаянной встрече с Денисом Денисычем. Сейчас только заметил Лебрен на скамье полузасыпанную снегом самодельную папку и догадался: рисунки.