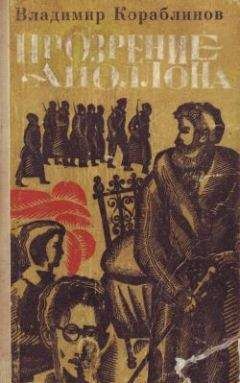…Мерцал жалкий красноватый язычок свечи.
Спящий Лебрен кричал придушенно: «Ефим! Ефим!.. Прости меня, Ефим!»
Огромные черные тени шевелились на розовой стене, страшные тени каких-то невиданных зверей… Отвратительными голосами орали, выгибая спину, задирали длинные хвосты.
И тошный запах лекарства мутил нестерпимо.
На мгновение исчезали черные призраки, проваливались во тьму, но лишь на мгновение – и снова метались кошки, лизали половицы, громоздились на ящик, карабкались на спящего клетчатого человека.
– Ефим… – стонал Лебрен. – Прости…
Затем вскакивал, похожий на черта, освещенный адским пламенем моргающей свечи, дико оглядывался, отбивался от безумных кошек, скидывал их на пол; они грузно шмякались, расползались по комнате, и черные дикие тени их вновь распластывались на стене, истошно орали…
Время от времени в красноватом полумраке появлялась старуха, закутанная в немыслимое тряпье, в нелепой соломенной шляпке с бумажными цветочками; хрипло хихикая, гонялась за кошками, звала прокуренным голосом. «Пушок! Пушок! Кисуля!» Хотела поймать, но они ловко увертывались, прыгали высоко и с мягким топотом носились по комнате.
Наконец какая-то из этих тварей свалила бутылку со свечой, и та грохнулась на пол. И все затихло.
Утром на улице черным-черно сделалось, снег растаял, в стекла окон стучал ровный холодный осенний дождь.
Рудольф лежал пластом, страдал. Умирающе простонал, чтоб шел Павлин сам, без него, все будет отлично. Проще простого найти художественную студию: спросить арутюновский дом – всякий покажет.
– Послушайте, – сказал Павлин, – да вам, может, и поесть нечего? Так вот, я оставлю… – Он достал пяток лепешок, положил на ящик. – Бабуля мне много напекла…
– Ах ты, мой маленький… – всхлипнул Лебрен, отворачиваясь к стене, стыдясь своих слез: его корчило с перепоя, спазмы плача сжимали глотку. – Ах ты… мой маленький… Ну, ничего, ничего… еще не раз увидимся…
В мрачной передней стояла старуха из сна – то же тряпье, та же смешная шляпка, седая трясущаяся голова. Вокруг нее сидели кошки, мяукали жалобно, подхалимно, просили опохмелки. Павлин уставился на нее, все еще не понимая: что это, во сне или наяву? Старуха хихикнула и погрозила ему тонким кривым пальчиком…
А дом Арутюнова ему действительно сразу показали. И вот он стоял перед безобразными полосатыми львами, с восторгом и страхом собираясь переступить порог этого пролеткультовского капища искусств, за которым начиналась его, Павлинова, долгая жизнь, жизнь большого, подлинного художника с ее бесконечными сомнениями и ошибками, радостями и печалями, взлетами и падениями, поисками и находками…
Но об этом спустя полвека напишет он сам в искренней и беспощадной книге «Люди и годы».
Фотей Иваныч издалека было начал – завел о шкатулке с миллионом, о нынешних людях, каким, «мать-перемать, человека убить – все равно что цыплока прирезать», о неосторожности самой Зинаиды Платоновны, покойницы: «Царство ей небесное, упреждал ведь: дюже, мол, нараспашку живешь, милка… Неровен час-де какой злодей наскочит…» Но Аполлон Алексеич, перебив старика, спросил прямо, когда и каким образом погибла Агния Константиновна.
Фотей смешался, страшная встала перед его глазами картина: утренний полумрак в комнате, все раскидано, переворочено… седая гривка Зизи из-под подушки… и Агния, на полу, срамно заголенная…
– Да числа-то, дай бог памяти, осьмого, что ли, в ночь. Я этта утресь, значит, дай, думаю, картоху осталец переберу, да… хвать, а ключа-то от погребицы – черт ма, ну, я в дом, этта, стучать, конечно, да…
«Восьмого… восьмого…»
Аполлон попытался прикинуть, вспомнить – а что с ним восьмого произошло? И как ни силился, не мог, слишком уж незначительным казалось сейчас все то, чем в те ясные, тихие дни занимались они с паном Рышардом. Напряженно-внимательно слушал рассказ Перепела, но оттого, что так неожиданна, так чудовищно-нелепа и безобразна была сама гибель Агнии и так ошеломило его известие об этой гибели, до него и пятой доли не дошло из Перепелиного бормотания. Ему сейчас одно было важно, единственное: подумать в тишине. А старичок сыпал, сыпал пустыми словечками, пристукивал, болбонил перепелиной колотушкой, без конца поминая какие-то сельсоветские бумаги с печатью, картошку, пышные похороны, устроенные белыми властями, сообразившими обернуть убийство бывшей помещицы не как-нибудь, а красным террором, о чем даже и в газетке пропечатано…
Фотей совал потрепанный номерок «Телеграфа», и Аполлон, плохо, трудно соображая, читал гнусную статейку «о злодейском убийстве красными комиссарами двух одиноких женщин, дворянок по происхождению…».
«Какие дворянки? – пытался уразуметь. – Какие комиссары?» Он был как в столбняке
Фотей Иваныч засуетился с самоваром, но Аполлон решительно отказался от чая. Попросил сводить на кладбище, показать могилку. Сняв глупый соломенный картузик, молча стоял Аполлон под грубо, кое-как отесанным крестом у рыжего холмика и думал, думал, думал. И тут, в тишине земли изначальной, великой, где лишь ветра посвист в ушах да грустная песнь улетающих журавлей, понял наконец все. Хотя всего и было-то: «Нету Агнии. Ушла. Навсегда».
Он долго так стоял, опустив голову, тупо глядя под ноги, на пожухлую осеннюю травку, цветом своим сливающуюся с глиной могильного бугорка. И тишину, наполнявшую природу и его самого, лишь время от времени, словно медленными ударами похоронного колокола, раскалывали три слова: нет… ушла… навсегда…
И не слышал ничего, кроме этих печальных слов, ни как покашливал озябший на холодном ветру Перепел, ни шороха шагов подошедшего монаха. Он вздрогнул, когда Фотей тронул его за рукав и сказал:
– Вот отец Милетий спрашивает – панихидку не желаете ль по усопшей?
– Что? – словно проснулся Аполлон.
– Простите, профессор, – поклонился монах, – но, мне кажется, что молитва сейчас была бы крайне необходима и для вас, и для покойницы…
– Так что? – спросил Аполлон,
– Отпоем панихидку с вашего позволения?
– А-а… Нет, благодарю, – Аполлон понемногу приходил в себя. – Ничего не надо. Лишнее.
– Ах, вот как, – несколько смешался монах. – Понимаю. Профессор атеист, не так ли?
Аполлон сердито гакнул, срыву нахлобучил картузик и, круто повернувшись на каблуках, решительно зашагал прочь. Перепел, запыхавшись, ковылял следом, приговаривал:
– Какой же это священник! Одна видимость, мать-перемать… Вантюрист! Да ведь куда ж денешься, сбежал поп-то, вот он и пользуется мать-перемать!
И, хотя дело уже к вечеру шло и разумнее было бы остаться, переночевать в Фотеевой каморке, но, как ни уговаривал старик Аполлона, тот наотрез отказался, настоял на своем и уже в глубоких сумерках отправился на станцию.
Велико было горе.
Поезд прибывал лишь на рассвете, и всю долгую осеннюю ночь метался Аполлон возле полустанка, временами без дороги углубляясь в глухо шумящую черноту леса, каким-то истинно звериным чутьем всякий раз угадывая, в какую сторону идти, и, всякий раз, сделав круг по темной лесной целине, выходя к тусклому фонарю полустанка.
Давешний железнодорожник его заприметил.
– В зало пожалуйте, – сказал, насмелясь подойти к чудно́му растрепанному человеку. – Погодка-то, сами видите…
– Ничего, не беспокойтесь, – буркнул Аполлон.
– Да и небезопасно, знаете, – продолжал тот. – Того, пошаливают, знаете… Обобрать могут.
Аполлон снова сказал:
– Не беспокойтесь, – и, прогромыхав по дощатому настилу платформы, провалился во тьму, бесчувственный к хлестким ударам колючих веток дикого терновника, обильно разросшегося возле полустанка, к порывам холодного ветра, к ледяным брызгам то начинающегося, то замирающего дождя.
Боль утихала понемногу, переходила в усталость. Обрывки мыслей из беспорядочной круговерти вырывались мало-помалу, выравнивались, обретали законченность, житейский смысл. В шуме ненастной ночи еще звучали далекие удары скорбного колокола: «ушла… навсегда…» – но все реже, все глуше. И вдруг во тьме ярко, радостно сверкнула в памяти Рита, веселая, хохочущая, в распахнутой кожаной курточке, с замызганной холщовой папкой… Это была жизнь, деятельность, счастье. Это был конец темной, ненастной ночи. Это было прозрение в будущее. Как бы озаренный фантастическим светом будущей жизни, стоял он на мокрой платформе, впитывая в себя этот животворный свет, пока в утренней мгле не показались два красноватых глаза приближающегося паровоза.
В вагоне, как и месяц назад, приглушенно рычала гармошка, хлопали двери, тянул свежий, мокрый сквозняк, но он ничего не видел, ничего не слышал: привалившись к спинке деревянной скамьи, крепко спал, приоткрыв рот, слегка всхрапывая. Растрепанный вид его у одних вызывал усмешку, у других жалость: исцарапанное в кровь лицо, свалявшаяся борода, полная мелкого лесного хлама – стеблей, листочков, хвоинок, паутины… Смешной картузик где-то потерялся в ночных блужданиях, космы на голове лохматились по-лешачьи… Соседи разно о нем судили: что тронулся, сердечный, что попросту выпимши мужик, иные (женщины) угадали в нем монаха из разоренного монастыря, приняв длинную черную крылатку и золотом поблескивающие бляхи застежек за признаки священства.