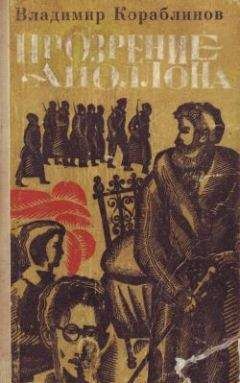– Так ведь кровать-то вот эта, моя, у нас одна на всех осталась. – Агния всхлипнула. – И твою, и Риточкину взяли…
– Ка-ак?! – взревел Аполлон Алексеич. – Как, то есть, взяли? Что это значит – взяли?
– Да вот… для лазарета будто бы.
– Ну, уж это нет! – Профессор не вскочил – прянул, забегал по тесной спальне, в нагромождении вещей и вещичек, натыкаясь на какие-то нелепые, сроду никому не нужные предметы, все эти тумбочки, этажерочки, креслица… «Как же это, позвольте-с! – прыгали, метались бессвязные мысли. – Одна кровать? Что значит – одна кровать? На троих?! Ну, допустим, не на троих – на двоих, Ритка может пристроиться на козетке, но все равно: тебе будут дышать в затылок, голой пяткой касаться твоей ноги… притискивать тебя задом к холодной стене… Ну, нет! «Пардон, пардон, тысячу раз пардон!» Ах, разбойники! Еще и ножкой шаркает, сволочь! Жоржик!.. Вот тебе и почитал на сон грядущий!»
– Сейчас же иду и поднимаю скандал! – решительно заявил Аполлон Алексеич.
И уже было потянулся за шубой, в дикой ярости обрушиваясь мысленно на штаб, громя, стирая с лица земли, то есть с институтской территории, и штаб, и франта с лакированным пробором, добираясь, наконец, до командира, вероятно уже вернувшегося из города, и уничтожая его могучей волной своего гнева.
Смешно вертелся на одном месте, никак не ухитряясь попасть в рукав шубы, которая извивалась, рвалась из рук, словно до сих пор преехидно только лишь прикидывалась шубой, а на самом деле была вовсе не шуба, словно вдруг ожили зверьки еноты и кинулись врассыпную прочь, в лес, спутали все – где пола, где рукав…
Аполлон чертыхался, бушевал, сгоряча разбил какой-то вазончик. Агния ахала, хваталась за нашатырный пузырек…
Именно в эту минуту в комнату вошли розовощекая смеющаяся Рита и – собственной своей персоной – очкастый и нескладный Ефим Ляндрес.
– Господи! – сказала Рита. – Опять баталия.
Ефим Ляндрес раскланялся, как всегда, шутовски:
– Здравствуйте-пожалуйста, наше вам с кисточкой.
В такую минуту паясничать!
Агния Константиновна как-то странно, по-рыбьи, зевнула разок-другой и потеряла дар речи.
Зверьки еноты, окончательно выскользнув из рук профессора, забились под стол, прижались друг к другу, снова притворясь шубой.
– Как в рассуждении чаю, ма? – спросила Рига, на ходу швыряя огромную холщовую папку на измятую Аполлоном Алексеичем материну кровать.
– Всю дорогу мечтали, – искусственным баском картаво сказал юный Ляндрес, – об трахнуть чашечку гогачего чайку…
Агния глядела на него как зачарованная. Боже мой, как она ненавидела этого очкастого, узкоплечего, косматенького, неприлично развязного еврейчика! «Гогачего чайку»! Ах, дурища Ритка… Ну, ей ли, с ее внешностью, с ее умом, этакий шут гороховый!
– Раздевайся, раздевайся, Фимушка! – ласково, как никогда с матерью, журчала Рита. – Садись, вот чай… вот коржики какие-то. Шамай.
– Могковочка? – вежливо, голову набочок, осведомился Ляндрес, рассматривая на свет буровато-красный стакан.
«Еще новости: на «ты»… «Могковочка»!» Агния Константиновна истерически захохотала, повалилась все на ту же злосчастную кроватку; свистя шелковой юбкой, смешно, несуразно засучила ногами. Что-то жалобно дренькнуло об пол, и тут же хрустнуло стекло под тяжкой стопой кинувшегося к жене профессора.
– Ай! – оборвав смех, вскочила Агния. – Мое пенсне!
– Пара пустяков, – сказал Ляндрес, гулкими лошадиными глотками отхлебывая чай. – Достанем новое. Плюс? Минус? Сколько диоптрий?
– Минус ноль пять, – простонала Агния.
– Раз плюнуть, – глотнул Ляндрес. – Это же, извиняюсь, без пяти минут оконное стекло.
Он что? Издевается? Эти идиотские числительные – пара пустяков, раз плюнуть, без пяти минут…
– Послушайте, молодой человек.
Профессорша выпрямилась, сделалась как на корсетном объявлении в журнале «Нива». Аполлон Алексеич знал: подобная поза предвещала взрыв. Она и в самом деле хотела взорваться:
«Послушайте, молодой человек, прошу прекратить это неуместное шутовство… эти ваши советские шуточки… И, будьте любезны, оставьте в покое мою дочь… и… и…»
И черт его знает что еще, нарастающее в гневном крещендо, но встретила вежливый и, кажется, насмешливый, холодный блеск железных очков Ляндреса – и отступила, смешалась, сказала то, что и не думала говорить.
– Если это вас не затруднит…
– Об чем разговор! – сказал Ляндрес. – Ты, Марго, мне завтра утром напомни. Как только придешь в редакцию.
Марго?
Позвольте, позвольте, это кто же – Марго? Он к Ритке обращается, значит, это Ритка – Марго? Фу, как неприлично – кафешантан, кокотки… Марго! И потом – редакция. Она, оказывается, еще и в редакции какой-то бывает. Ох, дети! Давно ли возилась на пестром ковре с куклами, угощала их, наказывала, ставила в угол, учила грамоте: «Вот этот кружочек – о, вот – а…» И вдруг…
И вдруг – в редакции зачем-то. Ну, хорошо, девочка увлекается рисованием, пусть даже студия… но редакция-то при чем?
А эта ужасная комиссарская курточка?
И Ляндрес?
Агния Константиновна не знала хорошенько, кто он, что он, где служит (она не разбирала – что горсовет, что рабкооп, что совнархоз), но твердо была убеждена: Чекист. Чека ей представлялась не учреждением, не службой, где люди сидят за столами или ездят в командировки, что-то пишут, получают жалованье, а чем-то невещественным, абстрактным понятием, полным мистического ужаса. Как Иоанново откровение во грозе и буре. Как зверь, явившийся из бездны. Как звериное число шестьсот шестьдесят шесть.
И далее профессорша уже не могла вынести. С тихим стоном прилегла на истерзанную постельку, отвернулась к стене и постаралась уйти из материального мира, забыться. Перед ее полузакрытыми глазами бушевали хризантемы обоев. Один за другим замирали грубые голоса земли. Потустороннее встретило ее великой тишиной и растворило в себе. И не было больше ни тесной спаленки, ни громадного бесчувственного мужа, ни дочери, ни противного Ляндреса, ни вонючих солдат, храпящих в гостиной… ничего…
Лишь нежный шелест пахнущих старой бумагой хризантем.
Последующее происходило в тишине.
Объяснялись знаками, взглядами, движением губ. Ляндрес доглатывал чай беззвучно. Рита указала глазами на чайник: еще налить? Ляндрес помотал косматой головой, пальцем постучал по циферблату огромных ручных часов: нет, мол, спасибо, поздно, пора идти. Аполлон Алексеич встрял в безмолвный разговор, вытаращив глаза, простер руки к черному окну: как же, мол, пойдете? Ведь нельзя без пропуска. А вот! Ляндрес помахал розовой картонкой. Покачал головой, посочувствовал шепотом:
– Ай, как вас уплотнили!
– Ничего, – жуком в стакане приглушенно прогудел профессор, испуганно озираясь на спящую Агнию. – Не замерзать же людям на улице.
– Абсолютно верно, – кивнул Ляндрес и, обращаясь к Рите: – смотри же, не забудь завтра напомнить насчет пенсне.
Решительно поднялся, потряс Аполлонову руку. Рита вызвалась проводить его немножко, до Ботанического. Оказалось, что и у нее есть пропуск.
«Ну-ну, – вздохнул профессор. – Эмансипация, стало быть».
Расстелил на полу старые номера губернских «Известий», кинул на них присмиревших енотов, лег, примерился – отлично. Во всяком случае, сам по себе. Вспомнил про Денисову тетрадь, но на полу оказалось темновато, трудно читать. И Аполлону волей-неволей оставалось одно: заснуть.
Что он и сделал.
Тревожно спала Крутогорская губерния.
Верстах в полутораста от города шла непонятная, небывалая война. Там русские мужики дрались со своими же русскими мужиками. Там черное небо мартовской ночи дрожало розовым заревом незатухающих пожаров. Белые генералы держали путь на Крутогорск, расчищали деникинцам дорогу к красной Москве. Советская власть отбивалась отчаянно, не пускала генералов, и те двигались нешибко. Но в лазаретах была теснота.
На великолепной, с блестящими мельхиоровыми шарами профессорской кровати умирал в эту ночь молодой красноармеец Тимофей Гунькин. В тяжелом бреду звал жену Прасковью и деток Васю и Нюру. Страшно вскрикивая, проклинал мировую буржуазию и вдруг затих под утро, улыбнулся блаженно: блистательный алый рассвет новой жизни разгорался в предсмертном видении, в радужных лучах восходящего солнца стояли веселые и невредимые Прасковья и детки.
За окнами лазарета, устроенного в актовом зале, действительно просыпался день. Но рассветало на дворе хмуро, нехотя, как бы через силу. Шел мокрый снег. В верхушках старых корявых тополей галдело бестолковое воронье, они дрались, спихивали друг дружку с раскоряченных голых веток, хлопали крыльями, растревоженно устраиваясь в своих уродливых гнездах.
На башне главного корпуса тоненько, звонко пробили часы – восемь. Суровый заспанный санитар подошел к роскошной кровати, поглядел на красноармейца Гунькина, нагнулся, пощупал его застылый костяной лоб и сказал: