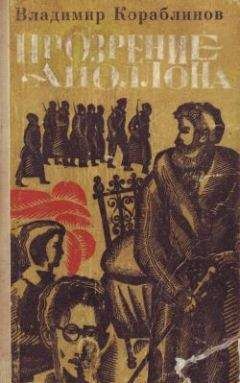– Готов.
Позвал еще троих, и все взялись за мертвого и понесли его в тощий садик за корпусом, где росли раскоряченные тополя. Там четверо бойцов еще с ночи рыли большую яму. Стучали лопатами по мерзлой земле, гакали, выдыхая шрапнельные клубки пара. Жалобно, зло звенело острие лопаты, ударяясь о подвернувшийся камень. О пустой житейской ерунде громко переговаривались между собою копачи.
Вот эти-то звуки и растревожили и без того беспокойных, сварливых ворон, оттого-то они и гомонили.
Но красноармеец Гунькин уже ничего этого не слышал.
Аполлон же Алексеич проснулся не столько or вороньих воплей, сколько от холода. На скользком полу расползлись листы газет, а вместе с ними и непоседливые еноты. Голый паркет холодил бок, по полу несло сырым ветром.
За дверью разговаривали, ходили, побрякивали чем то металлическим. «Котелки», – догадался Аполлон Алексеич и потянул носом К запаху махорки и сапог прибавился запах солдатского варева.
Аполлон Алексеич протер глаза, сел и огляделся. Серые, немощные потемки рассвета зыбко, как дым, висели в комнате.
Итак, он спал на полу.
А. А. Коринский, профессор крупнейшего в России института, вышвырнутый из своей удобной кровати, спал на полу. Как босяк. Как непутевый бродяжка.
За-ме-ча-тель-но!
Стараясь не разбудить жену, поднялся, подошел к столу, залпом выпил стакан холодного чаю. Морковная заварка противно отдавала псиной. Но пить хотелось ужасно. Видимо, Денисова икра все еще бунтовала в желудке.
М-м… Спал на полу.
Ну и как?
А ничего. Ей-богу, ничего. Хорошо спал.
И позвольте, кому какое дело – как я спал! Человек здоровый, непритязательный в своих привычках может и под забором, в уличной грязи, в придорожной канаве отлично выспаться.
Речь вовсе не об этом, милостивые государи. Речь, милостивые государи, о том, что все это возмутительно в принципе. Приходят, представьте себе, с улицы какие-то люди, забирают кровать – и будьте любезны, устраивайтесь, как угодно!
Бедной Рите пришлось, надо полагать, основательно помучиться на козетке, где только младенцу впору поместиться. Маргарита же Аполлоновна девица – ого! – в папеньку… Русская, русская стать. Профессор втайне гордился крепостью сложения дочери.
На цыпочках подкрался к козетке и удивленно крякнул.
– Эт-то еще что такое?!
Пустая стояла козетка, никаких следов.
– Не возвращалась, – сухим, шелестящим голосом сказала за спиной Агния Константиновна.
– То есть как это – не возвращалась? – ошалело поглядел на жену.
– Да вот так, – прошелестела Агния. – Как вчера ушла с этим, ну, как его… с Ляндрином…
– С Ляндресом, – поправил Аполлон Алексеич. – Но ведь ты же спала?
– Ничуть. Я все слышала. Как вы шептались, как они ушли. Потом ты улегся и захрапел, а я все ждала. Всю ночь.
– И всю ночь не спала?
– Ни минуты. Послушай, Поль, ты должен с ней поговорить серьезно. Ты отец, это твоя обязанность. Все эти ее плакаты, заседания, студии… Теперь вот – редакция…
В голосе Агнии послышались всхлипы.
– И еще относительно уплотнения… (Она нюхнула из пузыречка). Не знаю, как ты, а я так жить не в состоянии… Эти ужасные солдаты… (Всхлипы, пузыречек). Тебе надо побывать у товарища Абрамова, он распорядится, чтобы их от нас перевели еще куда-нибудь…
– При чем же тут товарищ Абрамов? – опешил Аполлон.
– Ах, боже мой! Как это – при чем? Он – власть, ему это ничего не стоит… Ты же сам говорил, что он во всем тебе про-те-жи-ру-ет.
«Какой, однако, житейски-цепкий народ эти женщины! – подумал профессор. – Мне никогда бы и в голову не пришла подобная мысль. Ха! Товарищ Абрамов… А почему бы и нет?»
– Хорошо, хорошо, – сказал он. – Сегодня же поговорю. Не совсем удобно, конечно… В конце концов, не мы одни… Пойми, что наша армия…
– Чья это – ваша, позвольте спросить?
– Ну… чья-чья! Красная.
– Ах, вот как!
– Да-с, вот так.
Всхлипы замерли, но длинная молния полыхнула с беленькой кроватки. Аполлон втянул голову в плечи, ожидая грома. Но вместо сокрушительного удара раздался вежливый стук в дверь.
– Антре, – пропела Агния.
– Входите, – сказал Аполлон.
Вошел сияющий Ляндрес.
Профессорша говорила о нем презрительно: «Этот недоносок Ляндрин».
Она малорослых мужчин вообще и за людей-то не считала, а этот, кроме всего, еще и какой-то кособокий был: одно плечо выше другого, большая, как котел, голова на тоненькой, слабой шейке, воробьиная, прыгающая походочка.
Он прискакал на попутной красноармейской фуражной бричке, вошел, дивно пахнущий сеном и мартовским мокрым холодом.
– Силь ву пле! – расшаркиваясь, паясничая, как обычно, сказал. – Прошу, мадам. Носите на здоровьечко! Ляндрес сказал, Ляндрес сделал!
И подал Агнии Константиновне изящную коробочку из-под асмоловских папирос «Осман».
– Простите? – надменно и несколько недоумевающе спросила Агния Константиновна.
– Будьте любезны-с! – сказал Ляндрес. – Заяц трепаться не любит.
В коробочке оказалось завернутое в папиросную бумажку пенсне. Согнутое в дужке, оно лежало, подобное утробному младенцу, совершенный близнец тому, раздавленному. Черепаховая оправа, чисто-начисто протертые стекла, минус ноль целых пять десятых диоптрий.
Чудовище!
Похитил дочь, под покровом ночи увлек ее куда-то, в редакцию или в Чека, или… что там у них еще? – и нагло пытается откупиться пенсне…
Агния Константиновна именно такими словами и подумала: «похитил… под покровом ночи… увлек… пытается откупиться».
– Где Рита?
В суровом, надменном голосе – скрытое рыдание.
– А что Рита, что? – петушиным голоском из еврейского анекдота спросил Ляндрес. – Что – Рита?
– Где она ночевала?
– Ну… где? В редакции, кажется. На диване.
– Где она сейчас? – Агния наступала неумолимо
– Сейчас? М-м… – Ляндрес взглянул на огромные, переделанные из карманных, ручные часы. – Половина двенадцатого? – Наморщив лоб, подумал. – Сейчас, по всей вероятности, она v Лебрена. В теастудии – поспешил объяснить.
– О боже!
Вопль Агнии – что-то вроде ночного крика цапли на болоте: печальный, жутковатый, сквозь свист ветра – свист шелковой юбки, свист бурей проносящихся видений; черный коренастый Лебрен, длинные смоляные волосы на прямой пробор, лиловая бархотка через лоб, обручем вокруг головы, дьявольские огненные глаза искусителя… Что-то от Мефистофеля с папиросной пачки, от Калиостро, от иллюзиониста Касфикиса, выступавшего в цирке с сеансами черной магии.
Аполлон Алексеич сует стакан с водой, нашатырь, бормочет: «Агнешка… Ну, Агнешка! Ох, ох…»
С глухим стуком падает на пол коробочка от «Османа».
Ляндрес мечется возле толстых ног профессора, пытаясь спасти новое пенсне.
Трубач пронзительно играет сигнал за окном. И – грохот сапог в соседней комнате, и шум голосов на улице, и дребезг тяжелых колес о булыжник, и заливистое ржание лошади…
«Ах, подите все прочь! Рита у Лебрена. Неужели вы не понимаете – что это такое?»
Лебрен – воплощение всех пороков. Время от времени он запойно пьет и все до нитки пропивает с себя. И тогда ходит в ужасных грязных кальсонах, в калошах на босу ногу. Ночует не дома, а в мастерской своего приятеля гробовщика Бимбалова, спит на стружках или в новом, еще не проданном гробу. Он, рассказывают, привел пьяненькую девицу с улицы, и та проспала ночь, а на рассвете с ней плохо сделалось, увидела – гробы, гробы… А то среди бела дня шел по Дворянской – в смокинге, в котелке, галстук бабочкой, – шел с рыжей дамой, и они целовались, бессовестные, на глазах у публики! Дама была выше его чуть ли не на голову, наклонялась к Лебрену, и тот, подпрыгивая, присасывался красными губами к ее неприличным прелестям…
Вот что такое Лебрен! О боже…
Однако вода и нашатырь делают свое дело.
– Поль! – стонет профессорша. – По-о-о-ль!..
– Ну-ну, Агнешка? Ну?
– Мы лишились дочери, Поль…
Аполлон топчется возле, как слон, цепями за ноги прикованный к полу.
– Мы лишились…
– Ну что ты, что ты! Успокойся…
– Этот Лебрен! Этот растлитель…
– Ай-яй-яй! – Ляндрес возмущенно. – Зачем вы так говорите, мадам? Вы просто не знаете Рудольфа Григорьича, наслушались пошлых сплетен и повторяете идиотские хохмы мещанок. Но кому это нужно, мадам? Мне? Вам? Лебрену?
– Что она делает там… у Лебрена? – умирающим голосом спросила профессорша.
– Ну, что делает, что, – дернул кривым плечом Ляндрес. – Рисует декорации, ну и… играет, конечно. Шемаханскую царицу – ничего себе для первого раза?
– Шемаханскую?!! Царицу?!! О-o-o! Это ж одна кисея… и все прозрачно… лишь чашки на груди… Я видела в Петербурге, это ужасно! Уж-ж-жасно!
– Ну что вы, мадам, какие чашки! Никаких чашек, чтоб я так жил!
– Ка-ак?! Даже чашек нет?
Агния Константиновна выпрямила свой роскошный бюст – величественно, корсетно.
– Послушайте, Аполлон Алексеич, – ледяным голосом королевы из любительского спектакля сказала. – Сейчас же извольте ехать к этому ужасному – – – Лебрену… И привезти Маргариту сюда, ко мне. Вы слышали?