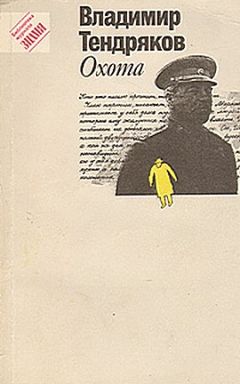— Что это, Рая? — спросил он.
Она помедлила, глядя мимо, чопорно ответила:
— Сервант бы вам лучше сюда вынести, как раз встанет.
И ушла, ничего больше не объясняя, — голова в надменной посадочке: «Вас много, а я одна».
Старый сервант стоял в комнате Дины Лазаревны и Дашеньки. Зачем его выносить в тесный коридор? Юлий Маркович так ничего и не понял.
Ночью, перед сном, он вспомнил этот случай и рассказала жене. Дина Лазаревна долго молчала и вдруг тихо призналась:
— Я боюсь.
— Чего, Дина?
— Всего… И ты ведь тоже, не притворяйся… Юлик, хочу, чтоб она уехала.
Он помолчал и мягко возразил:
— Дина, вспомни Чехова.
— Что именно?
— Вспомни, как он говорил: надо, чтоб под дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и напоминал стуком, что есть несчастные. Дина, до сих пор мы были непозволительно счастливы. Она ела толченую кору. Нам стучат, Дина, а мы не хотим слышать.
Из окна падал свет уличного фонаря, освещал корешки книг и внушительный медный барометр, подарок одного морского капитана Юлию Марковичу. В эту осень барометр неизменно показывал «ясно». Над Москвой стояло затяжное бабье лето.
Со стены нашего общежития отсыревшим голосом кричал репродуктор:
— Новое снижение цен на продукты массового потребления!.. Рост экономического благосостояния!.. Расцветание!..
На моей тумбочке лежит письмо матери. Мать пишет из села:
«Картошки нынче накопала всего три мешка. Да мне одной много ли надо проживу. Меня шибко выручает Маруська Бетехтина, она торгует сейчас в дежурке. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Карточки-то отменили, а хлеб у нас все равно по спискам продают. Для районного начальства по особым спискам даже белый хлебец отпускается. Через Маруську-то и мне его перепадает. А вот сахару у нас нет ни для кого, даже для начальства…»
Надо матери послать килограмма два сахара. Такие расходы мой тощий карман как-нибудь выдержит.
— Очередное снижение!.. Рост благосостояния!.. Расцвет жизни!..
В Москве сахар не проблема. В бывшем Елисеевском на площади Пушкина прилавки ломятся от разных продуктов: колбасы всех сортов, окорока, художественно разрисованные торты, монолиты сливочного масла… Но из Москвы я не смогу отправить сахар матери — продуктовые посылки в городе не принимают. Придется сесть на электричку, уехать куда-нибудь под Загорск, подальше от столицы, оттуда отправить ящичек с двумя килограммами сахара в наше село, где хлеб распределяется по спискам и начальство пьет несладкий чай.
Радио бравурно наигрывает и хвалится:
— Снижение!.. Рост!.. Расцветание!..
Я подсчитал: от такого снижения в месяц сэкономлю… два рубля. Обед в столовой стоит худо-бедно пять рублей. «Снижение!.. Расцветание!..»
Эмка Мандель сидит на своей койке, чешет за пазухой, сопит, смотрит в одну точку и неожиданно рожает четверостишие:
— А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.
Радио восторженно играет, мы смеёмся.
— Талант — штука опасная! — вдруг изрекает из угла некто Тихий Гришка.
Ему уже за тридцать, среди нас он считается стариком, всегда молчалив, всегда обособлен, в своем углу, как крот в норе. Но если он раскрывает рот, то почти всегда выдает закругленную истину — банальность и откровение одновременно.
Эмка отбивает мяч:
— Старик! Ты в полной безопасности!
Должно быть, Раиса родилась под счастливой звездой. Все получилось неожиданно легко и быстро. Без помех отыскался старый знакомый Семена Вейсаха, который когда-то помог прописать Клавдию. Он по-прежнему работал в горисполкоме, занимал еще более высокое место, слышал о беде Семена, сочувствовал ему, готов был исполнить просьбу Юлия Марковича. Телефонного звонка в отделение милиции было достаточно, чтобы на периферийный паспорт Раисы поставили штамп: «Прописана временно». С Юлия же Марковича взяли лишь расписку, заверенную жилуправлением, что не возражает прописать на свою площадь гражданку Митрохину Раису Дмитриевну.
Операция проводилась с помощью имени Семена Вейсаха, а потому его пригласили на чашку чая. Юлий Маркович никак не мог забыть свинцового лица друга Семена, его самостийно подмигивающего глаза.
В пятнадцать лет Вейсах воевал у Котовского. Легендарный комбриг, как говорят, ласково называл его: «Образцово-показательный жид у меня». Вейсах специализировался по военной литературе, участвовал в свое время в разных объединениях — ВАППе, ЛЕФе, ЛОКАФе, из писателей больше всего чтил своего старшего друга Матэ Залку, в свое время рвался вместе с ним в Испанию, но что-то помешало — не уехал, еще недавно он носил на пухлых широких плечах полковничьи погоны. Сейчас у Семена на висках проступила нездоровая маслянистая желтизна, крупная нижняя губа отвалилась, как у деревенской заезженной лошади, во влажных глазах неизбывная печаль детей Авраамовых. Он пил чай, грустненько, в осторожных выражениях сообщал: «Воениздат» передал сборник очерков о партизанах другому составителю, договор на его книгу о Петре Вершигоре расторгнут…
Клавдия подсовывала Семену бутерброды с колбасой, вздыхала, а Раиса разглядывала его внимательным взглядом, словно оценивала про себя надетый на Семена пиджак. И Семен, должно, чувствовал этот взгляд, горбился, блуждал печальными глазами по сторонам.
— Юлик… — негромко произнес Семен после мучительного молчания, — Ася недавно продала свою шубу… И вот мы опять… без копейки.
— Да ради бога, Сима!..
Дина Лазаревна сорвалась с места, исчезла в соседней комнате, через полминуты вернулась с деньгами. Семен меланхолично их принял, опустил в карман и встретился взглядом с Раисой, веко его дернулось и глаз вызывающе подмигнул. Раиса равнодушно отвернулась, а Семен сразу заторопился:
— Мне пора… Уже поздно.
Юлий Маркович проводил его до дверей. В шляпе, в плаще, неповоротливо громоздкий Семен взял ватной рукой за локоть, дыхнул в лицо запахом только что съеденной колбасы.
— Юлька… — почти беззвучно шевельнул он отвалившейся лошадиной губой, — берегись!.. — И качнул в сторону комнаты подбородком, где вместе со всеми за чайным столом сидела Раиса, произнес вслух, извиняясь: — Я теперь стал ясновидящим.
Он боком вывалился на лестничную площадку, оставив после себя тревожное предчувствие беды.
Беда вошла в дом через щель почтового ящика в служебном конверте со штампом вместо марки. Ничего особого — бумажка из парткома, Юлия Марковича просили явиться в назначенное время.
Секретаря парткома Юлий Маркович близко не знал, платил ему членские взносы и раскланивался в коридорах Дома литераторов. Ширпотребовский мятый костюмчик, обкатанная голова, простоватое лицо — когда-то что-то написал и напечатал, в свое время с должными усилиями прошел в члены Союза, не переживал головокружительного литературного успеха, ординарно скромен. Заурядность выдвигает людей чаще, чем дерзкая энергия и яркий талант. Заурядные никого не пугают. На тайных голосованиях эти люди получают подавляющее большинство голосов.
Секретарь парткома долго рылся в ящике письменного стола, и лицо его, кроме привычной озабоченности, выражало сейчас брюзгливенькое несчастье: «Вы тут черт-те что вытворяете, а я расхлебывай».
— Вот… — он вынул нужные бумаги, положил на них ладонь и взглянул на Юлия Марковича не начальственно, не строго, а скорей с досадою. — На вас поступила… М-м-м… Скажем так — жалоба.
— От кого?
Секретарь парткома пожал плечами, считая вопрос неуместным, продолжал:
— Надо признать — крайне глупая. Вот извольте, что стоит такое: «Кто это письмо прочтет, тот правду найдет…»
Тоскливенький холодок поплыл из глубины, от живота к горлу. Клавдия часто показывала Юлию Марковичу письма Раечки, он знал ее стиль: «Мое сердце без тебя, словно ива без ручья…»
— Вы, кажется, знаете, кто автор?
— Догадываюсь. Так что она там?..
— Она… гм… она пишет… «Член партии, писатель Искин Юлий Маркович принимает у себя дома подозрительных людей, которые ему жалуются на Советскую власть. Искин Ю. М. снабжает их деньгами на тайные цели. Он, Искин Ю. М., полный двурушник — в разговорах хвалит русскую нацию, а как на деле, то ненавидит. Простую русскую женщину, которую он у себя держит в прислугах, выпихнул на кухню, а сам живет в двух комнатах — одна шестнадцать квадратных метров, другая двадцать два…» — Секретарь, поморщившись, отодвинул письмо: — Вот, чем богаты, тем и рады.
«Сервант бы вам лучше сюда вынести…» До того, как он, Юлий Маркович, помог прописаться, она уже обмеривала веревочкой его жилплощадь.
— Вы хотите, чтоб я оправдывался? — спросил Юлий Маркович.
— А что делать? Мы обязаны внюхиваться, вы — очищаться.