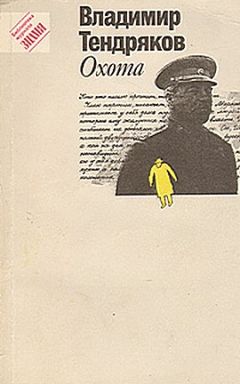— Вы хотите, чтоб я оправдывался? — спросил Юлий Маркович.
— А что делать? Мы обязаны внюхиваться, вы — очищаться.
— Письмо без подписи?
— Да, анонимка.
— Даже при царе Алексее Михайловиче не принимали анонимок. Каждый, кто кричал «Слово и дело!», должен был называть себя.
— При царе Горохе, может, и так, а я вот не могу выбросить этот букетик. Вписано в книгу, пронумеровано — документ!
— Тогда разрешите на него официально вам заявить: я не принимал у себя антисоветски настроенных людей, не вел с ними подрывные разговоры, не снабжал их деньгами на тайные цели… Вас это устроит?
— Вполне. Напишите объяснение, что у вас никто не бывал… кто бы вас мог как-то скомпрометировать.
Секретарь ждал краткого и решительного — никто. Но Юлий Маркович не мог так ответить. Соврать ради простоты столь же опасно, как выбросить в мусорную корзину анонимку.
— У меня бывал Вейсах… Семен Вейсах… Мы с ним двадцать пять лет знакомы.
Секретарь парткома тоскливо отвел глаза, и лицо его сразу же стало брюзгливо несчастным.
— Не хочу допрашивать вас, о чем вы там с ним говорили, но надеюсь… надеюсь — вы хотя бы не давали ему денег.
— Давал… Он сейчас без копейки.
В громадной, отделанной черным дубом комнате с величественным камином, где в углу сиротливо (за неимением другого места) ютился стол секретаря парткома, наступила тишина.
— Худо, Юлий Маркович, худо… — произнес наконец секретарь. — Я не хотел это выносить на обсуждение комитета… Не могу.
Это «не могу» были последние дружелюбные слова — взгляд стал скользить куда-то мимо уха Юлия Марковича, лицо обрело деловую сухость.
Позднее Юлий Маркович вспоминал об этом человеке только с обидой. Как быстро в нем иссякло сочувствие! Как легко он согласился на «не могу»! Как мало в нем было человеческого!
Но что бы ты сделал на его месте?
Выбросил письмо-анонимку в мусорную корзину, зная наперед, что при первой же проверке документации обнаружилось бы — исчезла бесследно бумага под входящим номером таким-то?
Или отмахнулся от факта, что такой-то имярек принимал человека, обличенного в нелояльности, ссужал ему деньги?
Но ты, конечно, постарался хотя бы посочувствовать — не глядел бы мимо, не корчил бы постную рожу.
Отказать в помощи и посочувствовать — экая добродетель! Куда честней откровенно признаться: не могу по справедливости, могу только по-казенному. Бесчувственное лицо, взгляд мимо.
Но иногда же нужно и через не могу. Во имя человечности будь подвижником!
Напрашивается вопрос: каждый ли на это способен?
Честно спроси себя: способен ли ты?
Ну, а если даже способен, то новый вопрос, уже совсем крамольный: так ли спасительно благородное подвижничество?
На минуту представим себе нечто невозможное: например, все сытые в голодном тридцать третьем году стали вдруг подвижниками, решили в ущерб себе делиться с голодающими последним куском хлеба. Невозможно, но представим — все сытые подвижники! И что же, спасет их подвижничество страну от голода? Увы! Причина голода не в том, что кто-то чрезмерно обжирается. Нужны какие-то иные меры, не подвижничество, иная деятельность, не столь героическая и красивая.
Джордано Бруно подвижнически взошел на костер. Но прежде он открыл некие секреты мироздания, создал новые теории. Сначала создал, а уж потом имел мужество не отказаться от созданного.
А вот Галилей таким мужеством не обладал или же не считал нужным его проявлять. Он отрекся от своих теорий, его подвижничество подмочено. Но благодарное человечество все-таки чаще обращается к имени Галилея, чем к Джордано Бруно. Просто потому, что Галилей больше создал для науки.
До сих пор люди еще не желают понять, что мужество без созидания бессмыслица!
Изменить жизнь подвижничеством, делать ставку на некие героические акты. Нет! На такое можно решиться не от хорошей жизни. Да и не от большого ума.
Не мной первым сказано: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях».
Только Дашенька легла спать. В стенах, тесно обложенных книгами, собралось все население квартиры — Дина Лазаревна с цветущим красными пятнами лицом, Клавдия, приткнувшаяся на краешке дивана, и Раиса, плотно опустившаяся на предложенный стул.
Она подрагивает крашеными ресницами, глядит в сторону — губы обиженно поджаты, скулы каменны. Юлий Маркович возвышается над ней. Он старается изо всех сил, чтоб голос звучал спокойно и холодно.
— Раиса Дмитриевна! Прошу ответить!..
Суд при всех, суд на глазах ее матери. Он не продлится долго. Юлий Маркович вынесет приговор и протянет руку к двери: «Убирайтесь вон! Вам здесь не место!»
Подрагивающие угольные ресницы, обиженно поджатые губы, упрямая твердость в широких скулах. Она начнет сейчас оскорбляться: «Ничего не знаю, напрасно вы…» Не поможет! Рука в сторону двери: «Вон!» Неколебимо.
Но Раиса, метнув пасмурный из-под ресниц взгляд, порозовев скулами, проговорила с вызывающей сипотцой:
— Ну, сделала…
Юлий Маркович растерянно молчал.
— Потому что должна же правду найти.
— Правду?
— Образованные, а недогадливые. Вы вона как широко устроились — втроем в двух комнатах с кухней, а нам у порожка местечко из милости — живите да себя помните. А помнить-то себя вы должны, потому что люди-то вы какие… Не забывайтеся! — Упрямая убежденность и скрытая угроза в сипловатом голосе.
— Какие люди, Раиса Дмитриевна?
— Да уж не такие, как мы. Сами, поди, знаете. Разрослись по нашей земле цветики-василечки, колосу места нету.
Прямой взгляд из-под крашеных ресниц, прямой и неломкий, с тлеющей искрой. И Юлию Марковичу стало не по себе. Эта женщина ничем не может гордиться: ни умом, ни талантом, ни красотой, только одним — на своей земле живу! Единственное, что есть за душой, попробуй отнять.
Юлий Маркович обернулся к Клавдии и увидел в ее глазах и в ее печальной вязи морщинок мягкую укоризну: «Ты что, милушко, дивишься? Ты же сам мне все время только то и втолковывал, что вы-де, русские, в Веселом Кавказе рожденные, не чета нам всем, миром кланяться нам должны…»
Светлые, бесхитростные глаза, никак не схожие с глазами дочери, заполненные угрюмой, обжигающей неприязнью, глаза любящие и всепрощающие, ласковые и преданные… Тем страшней приговор, что вынесен с любовью.
Он стоял и тупо смотрел на Клавдию, смотрел и не шевелился. И вдруг вскинула руки Дина Лазаревна, вцепилась в волосы, рухнула на диван. Между стенами, забитыми книгами, заметался ее клокочущий горловой голос:
— Господи! Господи! Куда спрятаться? Ку-уд-да?!
Раньше Юлия Марковича встрепенулась Клавдия:
— Динушка! Да ты что, родная?.. Да успокойсь, успокойсь! Христос с тобой!
Раиса сидела величавым памятником посреди комнаты, только крашеные ресницы подрагивали на розовом лице. Юлий Маркович пришел в себя:
— Уходи-те! Все уходите!.. Раиса Дмитриевна, ради бога!.. И ты, Клавдия, тоже!..
Нет, он не говорил «вон!». Не требовал, а просил: «Ради бога!»
Раиса не шевелилась.
Секретарь парткома произнес свое «не могу» и передал вопрос на обсуждение комитета.
Казалось бы, ну и что?
Один ум хорошо, два лучше. Если уж секретарь парткома, никак не Сократ, своим умом дошел — нечистоплотная ложь, то, наверное, двадцать пять членов парткома это поймут скорей.
Один ум, два ума, три… Простое сложение редко дает верный результат в жизни. Опасность таилась именно в численности комитетского поголовья двадцать пять членов! Среди них наверняка окажется хотя бы один, который носит испепеляющее желание проявить себя любыми способами, не считаясь ни с кем и ни с чем. Хотя бы один… Но скорей всего таких будет больше.
По всей стране идет облава на космополитов. Тому, кто желает проявить себя любыми путями, как упустить удобную жертву, как не крикнуть: «Ату его!»
Несколько человек — скажем, пятеро — прокричат кровожадно охотничье «ату», а два десятка их не поддержат. Два десятка против пяти — явное большинство, это ли не гарантия, что Юлий Искин вне опасности.
Увы, легион не всегда сильнее кучки.
Идет облава по стране, радио и газеты подогревают охотничий азарт. Легко крикнуть: «Ату!», почти невозможно: «Побойтесь бога!» Безопасно гнать дичь, опасно ее спасать.
Если даже один — только один! — начнет травить Искина, остальные будут молчать. «Ату его!» может раздаться над любым.
Положение еще обострялось и тем, что Юлию Искину не могли вынести легкого наказания. Или встреча с Вейсахом и деньги, ему данные, — просто дружеское участие, помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, что в общем-то непредосудительно и уж никак не наказуемо. Или же эта встреча некий акт групповых действий, а деньги — не что иное, как практическая помощь при тайном заговоре. В этом случае партком обязан прекратить обсуждение и передать Искина вместе с его тяжелой виной уже и руки… госбезопасности. Или — или, середины нет.