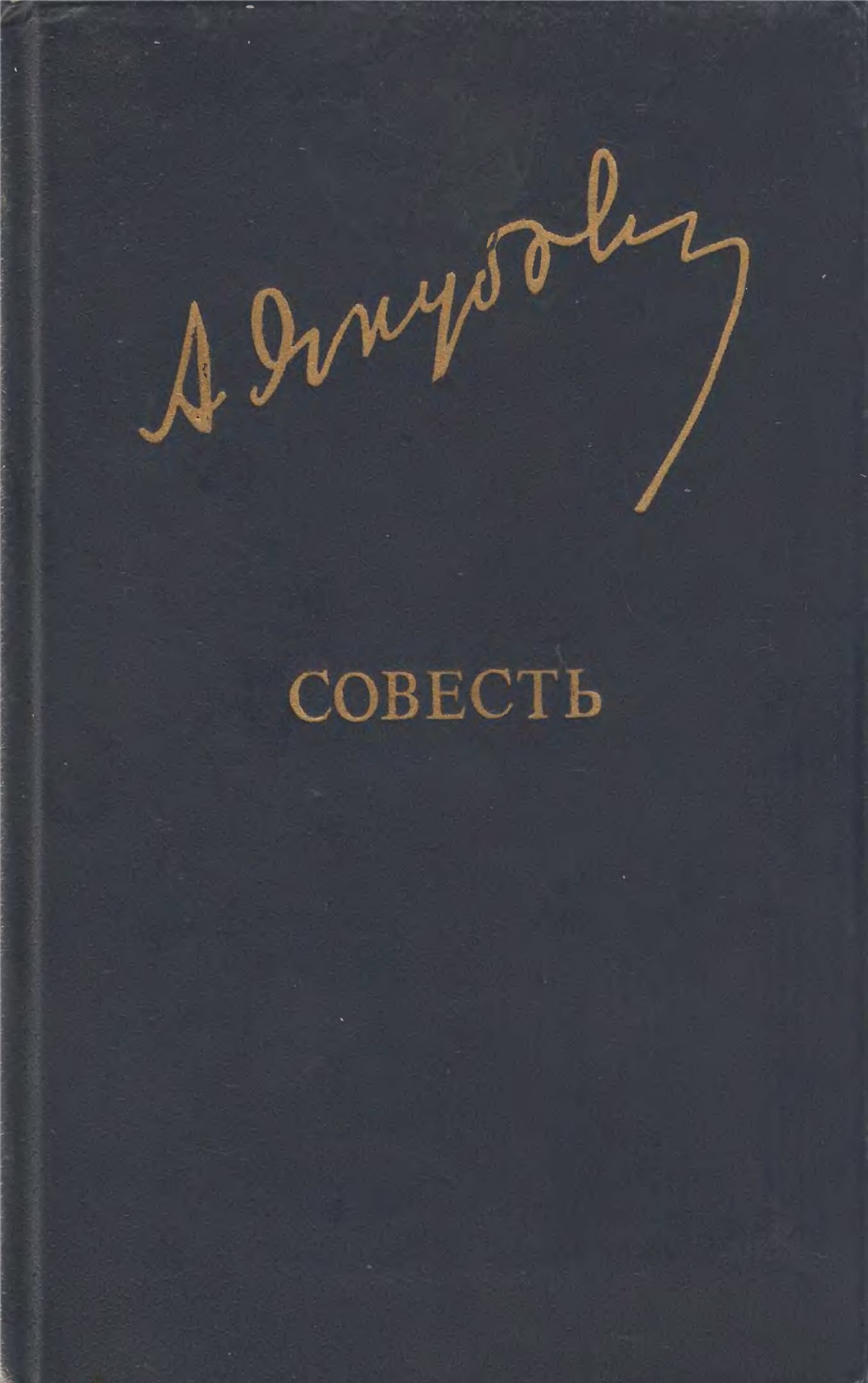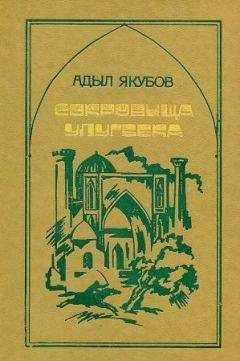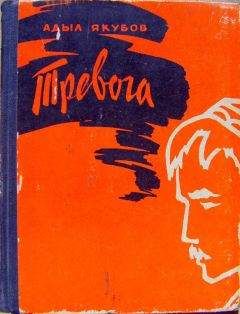полу длинного халата и чуть не упав при этом — уже в прямом смысле слова — к ногам повелителя, что продолжал милостиво и снисходительно усмехаться. Но вот поэт оправился от замешательства, вынул скрытую до поры до времени под мышкой, завернутую в шелк книжечку, степенно откашлялся. Красные, подобно гранату, щеки его раздулись, и Хилвати громко произнес:
Победоносный прадед ваш прославлен целым миром.
Меч гнева божьего, он был лучом на небе сиром!
Султан безбожный дерзко длань на тайны бога поднял
И был низвергнут тем, кто царствует сегодня.
О, славный правнук — веры меч, вас жаждет славить мир!
Вы в перстне камень дорогой, сияющий сапфир!
Когда Хилвати добрался до последней строки сочинения, голос его совсем уж срывался на петушиный крик, а глаза с испугом и мольбой о пощаде воззрились на Абдул-Латифа. Шах-заде невольно воскликнул:
— Славно, славно сложено!.. Хвала вам, дорогой поэт, хвала!
Шах-заде знал толк в поэзии, сам порою занимался сложением стихов и даже написал собственный диван, не торопясь, правда, к известности, особенно в кругу шейхов и маддохов. Ну да, насчет сапфира в перстне у Хилвати не без ловкости было сказано, однако шах-заде нравились стихи тонкие, полные завуалированного смысла, а тут неприкрытое, откровенное подобострастие, поэтически неуклюжее к тому же. Но шах-заде, воспрянув душой благодаря усилиям Низамиддина Хомуша, имел намерение в не столь отдаленном будущем сделать и свой двор средоточием поэзии, отнюдь, конечно, не вольнодумствующей, как то было при отце-вероотступнике, но угодной богу, а что касается роскошных пиршеств — со стихами и музыкой, а не только с обжорством и пьянством, — то их тоже следовало возродить. И поэты на них были бы украшением не меньшим, чем танцовщицы-рабыни… Так что пусть плоховаты рифмы у этого запуганного виршеплета, а все-таки первой ласточке и впрямь хвала!
Шах-заде приказал подарить поэту парчовый халат и пригласил Хилвати посетить соборную мечеть в собственной свите повелителя.
Да, сегодня он, шах-заде, новый повелитель Мавераннахра, должен был по совету шейха Низамиддина Хомуша посетить мечеть Биби-ханым, дабы обратиться к собравшемуся там множеству людей с первой своей — царственной — проповедью. Сегодня шах-заде вообще впервые после победоносного водворения в Кок-сарае покидал дворец, и потому был приказ усилить охрану, особенно же личную, многократно. Сарайбон подготовил больше полусотни всадников, к ним присоединилась обширная свита придворных. И, когда пышная кавалькада выехала за ворота Голубого дворца, все вокруг заглушил топот коней, казалось, по этому шуму и столбам пыли, поднявшейся над улицами, что едет целое войско. Впрочем, мало кто видел это великолепие: город был все еще пустынен, торговые и ремесленные мастерские, лавки, что тянулись от Кок-сарая до мечети Биби-ханым, были сплошь закрыты ставнями, и лишь кое-откуда, главным образом из мастерских, гончарных и каменотесных, доносился еле различимый стук, и даже на площадях, на уличных перекрестках народу было всего ничего. «Боятся? А кого боятся?» — подумал об этой невеселой и подозрительной закрытости города шах-заде. Было отчего смутиться, и он решил, что непременно прикажет градоначальнику Мираншаху открыть ставни всех лавок.
Проезжая через Регистан, Абдул-Латиф опять испытал неприятное волнение: взгляд его упал на пустую, до блеска вычищенную площадку перед медресе Улугбека, перед отцовским ненавистным медресе, и припомнилось почему-то, как на исходе ночи после убийства пришел к нему в покои со зловещим мешком Султан Джандар. И ухмылка его загадочная припомнилась… Страх снова пронзил всадника, он натянул поводья, вцепился в луку седла. Пришел в себя лишь перед соборной мечетью.
У высоких и массивных двустворчатых ворот мечети Биби-ханым шах-заде был встречен целой толпой сановников города во главе с Мираншахом и столпами веры — почтенными улемами, шейхами и прочими, впереди коих стоял Низамиддин Хомуш.
Молельный двор мечети — большой, тысяч на десять — был полон людьми. В одном углу двора сбились дервиши, в другом — просто нищие, чернь, голодранцы с ближайших базаров и улиц, но вся эта братия составляла меньшинство — сегодня в мечети, в основном, собрались люди почтенные — улемы, богатые торговцы, чиновники, знать, имамы окрестных мечетей; все они были в белом — белых чекменях и покрывалах поверх разноцветных парчовых и бархатных халатов.
Величественная, приятная глазу и сердцу картина!
Шейх Низамиддин Хомуш взял шах-заде под руку, провел его мимо склоненных долу белых тюрбанов к мраморной трибуне в центре двора. Великолепный портал здания мечети вздымается ввысь за спиной того, кто стоит на трибуне, а перед ним — мраморная подставка в виде огромной книги, на этой подставке святой коран, «Калломуло-и-шариф», в золоченом переплете.
Люди ждали от шах-заде проповедь — хутбу.
И он произнес ее. Он на память приводил стихи из корана, изречения из хадисов; проповедь же его состояла в том, что врагам ислама он пожелал гибели; далее он провозгласил, что отныне в Мавераннахре начался век истинного торжества веры, время счастья всех подлинных мусульман. Отныне и во веки веков! Последние его слова утонули в набежавшем, как огромная морская волна, грохоте совместного торжествующего возгласа множества голосов: «Илахи аминь!» — и гулкое эхо покатилось под своды.
Вслед за шах-заде к верующим обратился светлейший шейх Низамиддин Хомуш, Он объявил о том, что шах-заде взошел на престол по праву наследования и что, собственно, теперь он уже не шах-заде, не наследник, а первый повелитель правоверных мусульман, благодетель и благоустроитель государства, венценосец Мирза Абдул-Латиф. Шейх произнес долгую молитву в честь венценосца и повелителя правоверных, и, когда с уст его сорвалось последнее в молитве слово «аминь», мощный, тысячеустый возглас «Илахи аминь!» был ему ответом и продолжением, и снова дрогнули своды мечети, а с высоченного ее портала взмыла ввысь стая испуганных голубей.
Успех проповеди, моление в честь венценосца были для Абдул-Латифа ветром, унесшим из души гнилые листья последних сомнений в собственной правоте. Правда, были и неприятности. Доносчики принесли из Балха весть, что правитель Герата, Султан Мухаммад, коему Улугбек приходился родственником, узнав об убийстве султана Мавераннахра, приказал собирать войско для похода. Но Мирза Абдул-Латиф, во-первых, послал к Султану Мухаммаду надежного человека с предложением о сохранении мира, а во-вторых, как опытный воин, он знал, что тот не пойдет в поход зимой и потому надо различать угрозы словесные от угроз реальных, подлинно опасных.
Многие сомнения исчезли из души Мирзы Абдул-Латифа, и потому был он деятелен и энергичен.
Но только… при свете дня!
А ночью… Никто не видел, слава аллаху, как ночами врывался к нему в душу страх, тупой, не рассуждающий, гнетущий