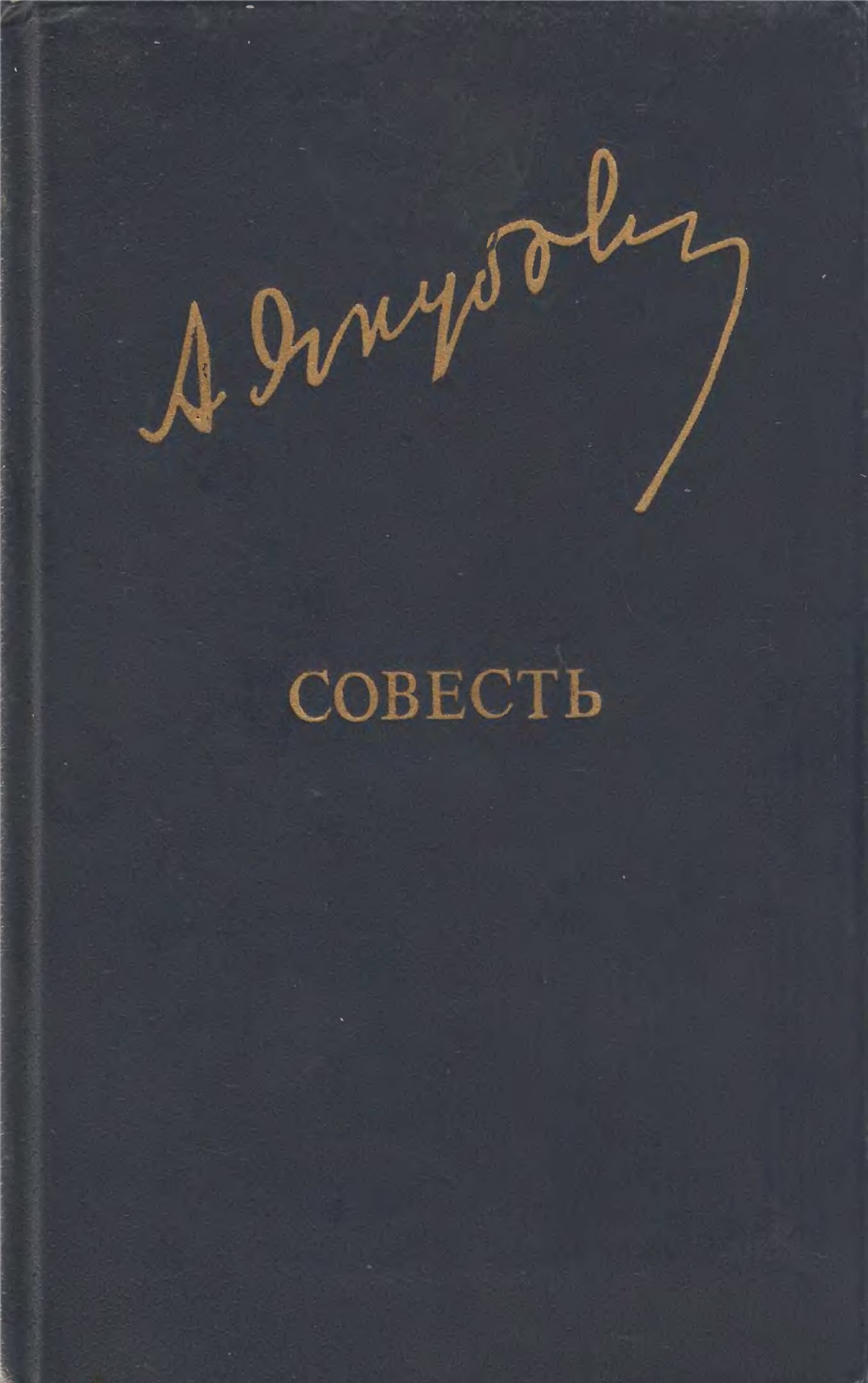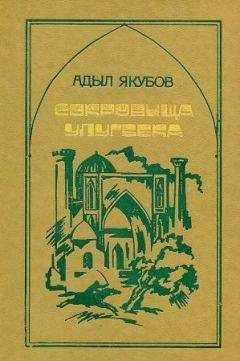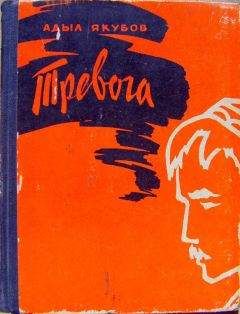он появился в этом узилище? Наступил ли рассвет, или ему только показалось? И снова пугающая мысль: если так тяжко дожидаться первого рассвета в темнице, то что же испытывают узники, заточенные на всю жизнь?..
Мгновения тянулись теперь для Али Кушчи ужасающе медленно, и казалось ему, что отныне нарушен закономерный круговорот времени, что в самой природе приостановилась извечная смена захода восходом, ночи днем, тьмы светом: все окружающее словно застыло недвижно и нерушимо. Были, конечно, признаки, по которым он догадывался, что время течет, что вслед за ночью приходит день: с вечера больше клопов и блох выползало из щелей; еще о движении времени говорило и маленькое, размером в ладонь, оконце в окованной железом двери — оно дважды за сутки, по-видимому, через равные промежутки в часах, приоткрывалось, и стражник подавал узнику воду в оббитой по краям глиняной чашке и овсяную лепешку. Невелика она была, эта лепешка, опрокинь пиалушку на нее, и лепешка спрячется. Али Кушчи умудрялся в первые дни заточения обходиться половиной воды, которую ему давали, другой же половиной увлажнял лицо и руки. А маленькую лепешку делил на три части, ел в три приема, да еще запивая глоточком сбереженной воды!
Кажется, на четвертый или пятый день, наверное, ночью, потому как, навоевавшись с насекомыми, он вроде бы и заснул, Али Кушчи услышал звон цепных запоров, жалобный скрип железной двери. Появились люди с факелами.
Свет факелов резал глаза. Али Кушчи прикрыл их руками. На пороге стоял есаул, косоглазый и со шрамом, рассекающим губы (где-то видал Али Кушчи этого человека?), рядом — эмир Султан Джандар собственной персоной, а за ними два воина держали факелы.
Чадящие факелы хорошо освещали крепкую фигуру эмира Джандара, его бобровый тельпек с красной кисточкой на маковке, знак эмирского достоинства, серебристо сверкающий пояс на синем суконном чекмене, красные сафьяновые сапоги. Султан Джандар сделал было шаг вперед, но, передумав, остался у порога в темницу. Чуть прищуренные глаза его вглядывались в темноту.
После нескольких мгновений молчания эмир Джандар, качнувшись крупным своим телом вперед, громко произнес:
— Мое почтение мудрейшему из мудрых Аляуддину ибн Мухаммаду Али Кушчи!
«Этот индюк смеется надо мной, — подумал Али Кушчи. — Предатель! Недавно был столь близок к повелителю, втерся в доверие. А теперь… Смеется надо мной, негодяй». Али Кушчи, хоть и знал, что играет со смертью, не сдержал колкого ответа:
— Рад лицезреть в этом райском цветнике правую руку великого повелителя, сиятельного султана Улугбека, эмира Султана Джандара-тархана!
Эмир Джандар поморщился и быстро, прыжком пересек темницу. Навис над узником, будто скала, готовая сорваться. Рука на эфесе сабли.
— Мавляна Али, — теперь эмир говорил медленно и жестко, без насмешки. — Эмир Джандар далек от премудрых наук, он всего лишь грубый воин. Но вы… но вас я уважал как мудрого человека, истинно ученого… Приходится сожалеть, что я жестоко ошибся!
— Увы, наши ошибки схожи… Ваш слуга тоже считал вас одним из самых верных эмиров нашего повелителя, от коего видели вы немало милостей. Как жаль, что я столь жестоко ошибался!
Эмир был изумлен. На какой-то миг он испытал даже нечто похожее на восторг. А потом, наполовину вытащив из ножен саблю, повернулся к есаулу, грозно выставив вперед кончики красивых подковообразных усов, кивнул головой: веди, мол, узника!
Сам повернулся на каблуках, со стуком загнал саблю в ножны до рукоятки и, не удостаивая больше никого взглядом, стремительно вышел из темницы. Есаул тихо, но внятно сказал:
— Идите за нами, мавляна!
Али Кушчи повиновался.
Вместе с приказом о заточении Али Кушчи в зиндан Абдул-Латиф отдал и другой: и без того отрезанную от мира обсерваторию и медресе Улугбека запереть на замок, всех талибов распустить по домам, а за учеными мужами установить неукоснительную слежку. Рука шах-заде, скрепляющая такое распоряжение именной печатью, не дрогнула: после визита шейха Низамиддина Хомуша Абдул-Латиф обрел желанное спокойствие. В столице и особенно в Кок-сарае жизнь постепенно входила в колею. По утрам к шах-заде являлись засвидетельствовать нижайшее свое почтение сановники и военачальники, беки и эмиры. Высокомерные эти вельможи, облачив телеса в парчовые, сверкающие рубинами и жемчугами халаты, в лисьи и собольи шубы (изукрашенные по верху опять же дорогой парчой), нахлобучив бобровые или из серебристого беличьего меха шапки, а то и степные малахаи, отороченные лисьими хвостами, приходили в Кок-сарай, в знаменитую залу приемов — салям-хану, выстраивались в ряды, словно нукеры на поверке, и покорно ожидали выхода главы государства. При появлении шах-заде сгибались в три погибели, отвешивали поклоны столь низкие, будто не молодого шах-заде встречали, а самого Сахибкирана, эмира Тимура Гурагана. А как чутко ловили вельможи каждое слово Абдул-Латифа, как старались, чтоб замечены были их восторженно-всепреданнейшие взгляды, к нему обращаемые!
Однажды утром пришли посланцы столичных купцов. Именитые торгаши предстали пред очи молодого повелителя не с пустыми руками: дары унаследовавшему престол — горы шелковых, парчовых, суконных и всяких прочих тканей, тюки индийского чая, фарфоровую посуду, изготовленную китайскими мастерами, — приволок на дворцовый двор небольшой караван верблюдов. А лишь удалились торговцы, пожелавшие шах-заде здоровья и счастья, долголетия и славы, сарайбон объявил, что для выражения своей преданности просит допустить его к повелителю поэт Мирюсуф Хилвати.
Абдул-Латиф кое-что слышал о поэте Хилвати, даже, кажется, некогда перелистал сборник его стихов. И хотя пора было отправляться в соборную мечеть, шах-заде, чему-то обрадовавшись, решил задержаться в салям-хане и принять поэта.
Толстый, округлый человек в длинном халате из ткани «банорас», доходившем до пят, и в ковровой островерхой тюбетейке пал на колени у самых дверей и принялся забавно прикладывать ладони то к полу, то к лицу. Суетливое это подобострастие выглядело шутейно; шах-заде невольно засмеялся и милостиво позвал поэта к своему креслу. Но Мирюсуф Хилвати остался на коленях у порога; закрыв глаза, как бы не в силах вынести блеска, исходящего от того, кто сидел впереди на троне, поэт, не меняя позы, заговорил так быстро, будто губы его не успевали прикоснуться друг к другу:
— Ваш всепокорнейший и трижды смиреннейший слуга сочинил стихи, посвященные вам, светочу и обители справедливости, вам, перлу и диаманту в короне великого султанства Мавераннахра, вам, падишаху изящного слова и его щедрому покровителю, и если благодетель соблаговолит услышать их, то я…
— Нельзя не обрадоваться, когда султан слова, поэт… Хилвати… преподносит нам свое творение, — шах-заде улыбался так, как должен был, по его понятию, улыбаться истый покровитель изящного и душеспасительного слова. — Встаньте, встаньте, дорогой поэт!
Мирюсуф Хилвати наконец поднялся, правда едва не наступив на