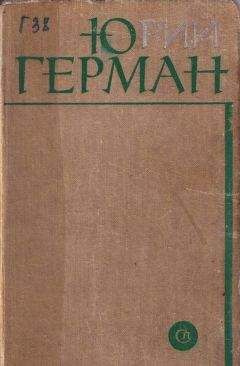- Я - врач, а не доктор! - огрызнулся Антропов.
- Для меня, может, ты и профессор, а по бумагам фельдшер, - спокойно сказал Лапшин. - Я к тому, что разделяет тебя с Лизаветой не возраст, а Музкомедия.
- Это как же?
- А так же! Вот небось набрился, плешь волосенками прикрыл, галстук два раза перевязывал, брючишки отпарил. Было?
- Было! - со смешком ответил Антропов. - Еще даже шляпу напялил, которую никогда не ношу, и набок ее посадил, эту самую шляпу. А Лизавета заметила и высказалась в том смысле, что если человек носит шляпу, то носит ее всегда, а не только в театр.
- Видишь, значит, это правильно - насчет Музкомедии...
- Так что же делать? Смешно предлагать ей жениться, если она просто меня считает симпатичным дядюшкой...
Они вышли из машины и не заметили, как оба оказались в коридоре. Лапшин повернул выключатель, оба они закурили. Антропов смотрел на Лапшина так, словно тот сейчас ему все окончательно объяснит и всему научит. И Лапшин действительно сказал все, что думал, но так, что Александр Петрович почти ничего не понял.
- В человека она в тебя вряд ли влюбится, - сильно затянувшись, произнес Лапшин. - Суди сам, парнишка ты не молодой, хотя, конечно, и не старый. В волейбол играешь с натугой и слишком, знаешь ли, старательно. На рестораны и разные там такси - денег у тебя не густо. В Эрмитаж ты с ней ходил и сам мне рассказывал, что очень тебе там было скучновато. Еще были вы в Музее почт и телеграфов, так, что ли?
Антропов кивнул.
- Устроил я тебе также посещение Музея уголовного розыска. У нас она чуть не заплакала и попросилась на воздух. Было это?
- Было.
- Поднимались вы на вышку Исаакиевского собора. Ездили дважды в Петергоф и в Детское Село, что твой бюджет слегка подкосило...
- Да ну вас, Иван Михайлович, - с досадой сказал Антропов. - Словно на допросе.
- А ты на допросах не бывал и помалкивай. Теперь дальше - водил ты ее туда, где чучела крокодилов и мамонтов, что ли? Был недавно на катке и упал. И был ты везде не ты, не доктор Антропов Александр Петрович, а ферт. Пожилой ферт в шляпе. Лизавета же девушка умная и не может это не замечать. Ты будь собой. Самим собой.
- Это как же?
- Не знаю, Александр Петрович. Разберись. Одно только мне понятно через Музей почт и телеграфов ты в женихи не пробьешься. Пойдём, что ли, поспим?
Здесь, под лампочкой, они попрощались. Антропов, по обыкновению, уронил ногой неловко прислоненную к стене кроватку соседского мальчика Димки, а Лапшин, ложась, подумал, что советовать он умеет, а вот как самому жить дальше - не знает, и спросить совета ни у кого никогда не решится.
Полежав минут двадцать неподвижно, он заметил, что Окошкин еще не вернулся, позвонил на работу, выяснил, что Вася "отбыл" только что, и назвал телефонистке номер больницы. Коммутатор не отвечал. Наконец его соединили со второй хирургией.
- Как там Грибков? - спросил он жестким, командирским голосом. - Как состояние?
- Состояние тяжелое, - ответили ему. - Вы слушаете? Крайне тяжелое.
- Так! - сказал Лапшин и медленно положил трубку.
"Музей почт и телеграфов! - почему-то подумал он. - Музей".
Лечь Иван Михайлович не смог. Все ходил и ходил по комнате, шаркая старыми туфлями и дожидаясь Окошкина...
Очная ставка
- Значит? - спросил Лапшин, все еще держа перед глазами Невзорова ружье. - Что же это значит?
Глеб держался руками за щеки.
- Значит...
- Вы номер видите? Он соответствует номеру в билете? Значит, это ваше ружье?
Глеб держался руками за щеки.
- Я не стрелял. Стрелял мой брат.
- Из вашего ружья?
Яркое мартовское солнце заливало комнату. Сверкала пепельница на столе, сверкали и переливались чернильницы, стаканчик для карандашей. И мартовский, еще холодный, но уже весенний воздух хлестал в открытую форточку.
- Я спрашиваю - из вашего ружья?
- У нас одинаковые ружья. Мы никогда не смотрели, какое чье. Мы не чужие люди, мы - братья.
- И потому вы говорите, что стрелял ваш брат?
- Я говорю правду.
- До сих пор вы не сказали ни одного слова правды. Кто стрелял?
Глеб Невзоров сжал ладонями виски.
- У меня нестерпимо болит голова, - сказал он. - Я прошу прекратить допрос. Я - болен. В таком состоянии я не могу...
Зазвонил телефон, Лапшин взял трубку.
- Это ты, Иван Михайлович? - угрюмо спросил Ханин.
- Ну, я.
- Совсем плохо. Вряд ли дотянет до вечера.
- Антропов там?
- Да.
- Хорошо.
Несколько секунд он молчал. Глеб вглядывался в него исподлобья - что узнал этот человек? Ничего не понял и глухо застонал, якобы от невыносимой боли.
- Не прикидывайтесь. У вас ничего не болит. Если вы сейчас не скажете, кто стрелял, я устрою вам немедленно очную ставку с Олегом. Вам ясно, о чем я говорю?
Неслышным шагом к Лапшину вплотную подошел Бочков, показал записку: "О.Невзоров утверждает, что стрелял брат. Слышал также крики в отношении помощи раненого Самойленко. Похоже на правду. Очень плачет".
Иван Михайлович подумал и кивнул. Вновь он перехватил исследующий, ненавидящий взгляд Глеба. Бочков плотно притворил за собой дверь.
- Мое ружье было похищено братом! - гортанным голосом сказал Невзоров. - Можете записывать - именно похищено. Я вообще не был на охоте. Я даже не знал о ней. Но о несчастном случае с Самойленко брат мне впоследствии рассказал. Ему тогда не было известно, что Самойленко скончался...
Лапшин прикрыл ладонью глаза. Это с ним случалось не часто, но все-таки случалось - вот так, внезапно, делалось стыдно за лгущего человека. А Глеб все говорил и говорил. Он рассказывал, как не мог донести на брата, потому что любил его и жалел родителей. Как мучился "психологически". Как даже советовался с одним доктором-психиатром. И фамилию доктора и адрес он тоже назвал...
- Хорошо, Невзоров, - негромко перебил Лапшин. - Хорошо. Помолчите.
Написал записку, позвонил и, ничего не говоря, передал листок Окошкину. Тот ушел. В наступившей тишине был слышен только посвист веселого мартовского ветра. Через несколько минут Бочков привел Олега Невзорова с покрасневшими глазами, с дрожащим подбородком. Глеб мгновенно съежился, но тотчас же вскинул голову и спросил:
- Это как понять? Очная ставка?
- Ваш брат утверждает, - вглядываясь в Олега, заговорил Лапшин, - что вы похитили у него ружье и на охоте Невзоров Глеб не был, а следовательно, выстрела не производил. Он утверждает также, что только впоследствии вы рассказали ему о несчастном случае и о смерти Самойленко. Это так?
- Так! - кивнул Глеб и сразу же отвернулся к окну.
- Это все ложь! - глотая слюну и стараясь растянуть пальцами воротник свитера, крикнул Олег. - Он подлец и свинья! Он выстрелил, конечно, нечаянно, когда мы шли по болоту за Самойленко, он...
Опять зазвонил телефон. Ханин сказал невнятно:
- Приезжай...
- Разберитесь тут до конца, Николай Федорович, - попросил Лапшин Бочкова и положил трубку на рычаг.
Оба Невзорова смотрели на Лапшина не отрываясь. Бочков сел на место Ивана Михайловича. Тот, не попадая в рукава, натягивал реглан. Опять стало слышно, как свистит ветер в форточке. Лапшина вдруг зазнобило. Дрожа крупной дрожью, он сел в машину, приказал Кадникову:
- В больницу!
- Кончается Толя?
Лапшин не ответил, свело челюсти. Он не мог сейчас говорить. И смотрел в сторону, ничего не видя, не понимая, не различая улиц, времени, скорости, с которой летела машина, завывая оперативной сиреной. Только одно он понимал всем своим существом - Толи уже нет. Да, да, разумеется, не одна смерть сделала свое дело в его глазах, разумеется, он знал, что Грибков не жилец, и все-таки это было так жестоко-нелепо - мертвый Толя, что Лапшин едва сдерживал набегающие, душащие слезы.
А потом пошло все как обычно: Грибкова еще не вынесли из маленькой палаты, но у двери стояла ширма. В изножье, уткнувшись лицом в простыню, неподвижно лежала Ирина Ивановна - Толина мама. Прокофий Петрович приехал раньше Лапшина, и странно было видеть его, всегда энергичного, всегда на ходу, всегда бодрого, - здесь, в этой особой, ни с чем не сравнимой тишине, рядом с пожелтевшими Ханиным и Жмакиным, возле крутых углов белой ширмы.
Погодя, закуривая на черной лестнице, по которой только что санитары унесли в морг то, что осталось от Толи Грибкова, Ханин неожиданно обернулся к Жмакину и сказал строго своим чуть скрипучим голосом:
- Я слышал, что вы пытались покончить с собой, юноша. Хочу вас уведомить, что нет большей подлости по отношению к жизни вообще, чем самоубийство. Человек обязан жить во что бы то ни стало, жить всегда, до последнего мгновения осмысленно. И поверьте, что я имею право это говорить.
Внизу хлопнула дверь на блоке, это она в последний раз закрылась за Толей Грибковым. Лапшин закурил, вглядываясь в желтое лицо Ханина. Баландин, зябко ежась, предложил Лапшину:
- Подождем, Иван Михайлович, пока Ирина Ивановна управится, а погодя свезем ее домой.