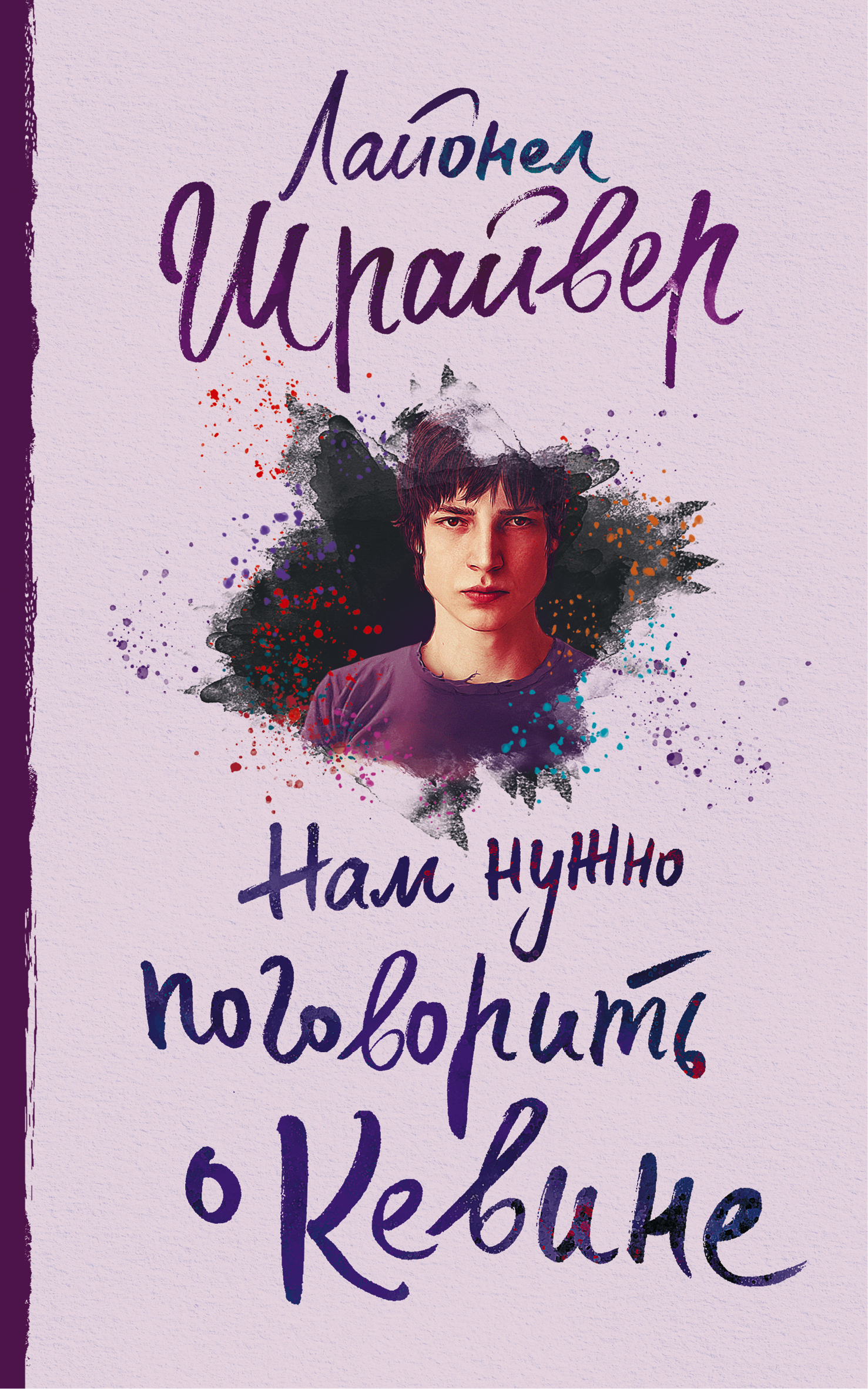ребенком пяти долларов в неделю.
Кроме того, своими однообразными лицемерными лекциями («Как бы ты себя чувствовал, если бы…») я предоставила ему редкую возможность аннексировать территорию высоких моральных принципов, и это откроет перед ним новые перспективы, даже если в конечном итоге эта территория окажется неподходящей к его интересам в недвижимости. Мистер Разделяй-и-Властвуй, должно быть, также понял, что секреты связывают и разделяют людей в строгом соответствии с тем, кто в них посвящен. Моя обращенная к тебе болтовня насчет того, что Кевину нужно принимать ванну, а не душ, чтобы не замочить гипс, была искусственно веселой и натянутой; когда же я спросила сына, хочет ли он посыпать попкорн пармезаном, в вопросе в изобилии прозвучали мольба, страх и раболепная благодарность.
Ибо в одном отношении я была тронута, и это чувство осталось во мне по сей день: я думаю, он испытал близость ко мне, с которой ему не хотелось расставаться. Мы не только были вместе замешаны в этой тайне; мы с ним скрывались и во время самого момента насилия. Может быть, Кевин тоже почувствовал себя цельным, вброшенным в жизнь огромной силой пуповинной связи. В кои-то веки я почувствовала себя его матерью; может, в изумлении летя через детскую, словно Питер Пэн, он тоже почувствовал себя моим сыном.
Остаток лета мне пришлось бросать вызов всем своим писательским инстинктам. Если бы я сочиняла сценарий фильма о жестокой ведьме, которая впадает в приступы слепой ярости, во время которых у нее появляется сверхчеловеческая сила, то в моем сценарии ее сынок ходил бы по дому на цыпочках, посылал бы ей робкие улыбки, отчаянно старался бы сделать что-нибудь умиротворяющее и вообще передвигался бы тихо, трусливо, с видом «да, госпожа» и делал бы все, что угодно, чтобы больше не совершать внезапных полетов через всю комнату.
Но это в кино. В реальности же на цыпочках ходила я. Я робко улыбалась. Я двигалась тихо и трусливо, словно находилась на прослушивании на музыкальное шоу.
Ибо давай поговорим о власти. Миф о домашнем государстве утверждает, что родители наделены ею в непропорционально большой степени. Я не так уж в этом уверена. Дети? Для начала, они могут разбить нам сердце. Они могут стыдить нас, подвергнуть нас банкротству, и я лично могу подтвердить, что они могут заставить нас жалеть о том, что мы появились на свет. Что мы можем сделать? Не давать им ходить в кино. Но как? Чем мы можем подкрепить свой запрет, если ребенок воинственно направляется к двери? Голая правда состоит в том, что родители похожи на правительство: мы сохраняем свой авторитет при помощи угрозы – открытой или подразумеваемой – применить физическую силу. Выражаясь проще, ребенок делает то, что мы велим, потому что мы можем сломать ему руку.
И тем не менее белый гипс Кевина стал сверкающим символом – но не того, что я могу с ним сделать, а того, чего я не могу. Прибегнув к высшему проявлению власти, я ее лишилась. Поскольку нельзя было поверить, что я буду использовать силу умеренно, я осталась с беспомощным арсеналом, с бесполезным оружием массового поражения вроде запасов ядерных ракет. Он точно знал, что я больше никогда пальцем его не трону.
Так что если ты боишься, что в 1989 году я стала приверженцем неандертальской грубости, то вся эта цельность, реальность и непосредственность, которые я обнаружила, использовав Кевина в качестве ядра для толкания, испарились в одно мгновение. Я помню, что стала чувствовать себя меньше ростом. Моя осанка испортилась. Мой голос стал тонким. Все мои просьбы, обращенные к Кевину, я формулировала как необязательное к исполнению предложение: Милый, не хочешь сесть в машину? Ты не будешь возражать, если мы заедем в магазин? Может, это хорошая идея – не отковыривать корочку с середины пирога, который мамс только что испекла? Что касается занятий, то я вернулась к методу Монтессори.
Сначала он подверг меня сменам темпа, словно дрессированного медведя в цирке. Он мог потребовать чего-нибудь сложного в приготовлении на обед, типа домашней пиццы, и после того как я проводила все утро, вымешивая тесто и готовя соус, он съедал со своей порции пару кружочков колбасы, а остатки скатывал в липкий бейсбольный мяч и швырял его в раковину. Потом ему надоело использовать мать в качестве игрушки – так же быстро, как он уставал от других игрушек, так что, полагаю, в этом мне повезло.
На самом деле, когда я стала навязывать ему те самые пересоленные снеки из пакетов, которые прежде отмеряла крошечными порциями, моя настойчивость вскоре стала действовать ему на нервы. Я имела обыкновение вести себя нерешительно, и он бросал на меня те уничтожающие взгляды, которые обычно достаются незнакомцу, севшему с вами рядом в полупустом вагоне поезда. Я оказалась недостойным противником, и любые будущие победы над родителем, который уже доведен до такого раболепного и покорного состояния, должны были казаться унизительными.
Несмотря на трудности с висящей на перевязи рукой, Кевин теперь принимал ванну самостоятельно, а если я наклонялась, чтобы завернуть его в чистое полотенце, он от меня шарахался и заворачивался в него сам. Совсем недавно он послушно позволял менять себе подгузники и смазывать кремом яички, но сразу вслед за этим в нем вдруг обнаружилась суровая скромность, и к августу он запретил мне входить в ванную. Одевался он тоже в одиночестве. Не считая тех двух недель в возрасте десяти лет, когда он сильно болел, он больше не позволял мне видеть себя голым до четырнадцати лет – и уж в тот раз я бы с радостью лишилась этой привилегии.
Что касается моих несдержанных проявлений нежности, то они были подпорчены извинениями, и Кевин их отвергал. Когда я целовала его в лоб, он его вытирал. Когда я расчесывала ему волосы, он отбивался и взъерошивал их снова. Когда я его обнимала, он холодно сопротивлялся, говоря, что я причиняю боль его руке. А когда я заявляла: «Я люблю тебя, малыш» – я больше не произносила эту фразу торжественно, словно излагая «Символ веры» [167]; скорее, это было похоже на лихорадочную, бездумную мольбу в «Аве Мария» [168] – на его лице возникало то язвительное выражение, которое потом превратится в постоянно опущенный левый уголок губ. Однажды, когда я в очередной раз произнесла: «Я люблю тебя, малыш», Кевин выпалил в ответ: «На НА-НА на-на, на-наааа!», и я решила перестать это делать.
Он явно считал, что раскусил меня. Он заглянул за кулисы, и никакое количество воркования и снеков не могли стереть то, что он увидел, – это было так же неизгладимо, как и первое столкновение с родительским сексом. И все же меня удивляло, насколько это открытие истинного лица его матери – ее порочности, ее жестокости – словно радовало его. Если он и узнал мой секрет, то этот секрет интересовал его гораздо больше, чем «три плюс два» наших скучных арифметических упражнений до «инцидента», и он искоса следил за своей матерью с совершенно новым чувством – я бы не назвала это прямо-таки уважением – с интересом. Да.
Что же касается нас с тобой, то еще до того лета я привыкла скрывать от тебя разные вещи, но по большей части это были мыслепреступления [169]: ужасающая пустота, которую я испытала, когда Кевин родился, мое отвращение к нашему дому. Все мы до некоторой степени оберегаем друг друга от какофонии ужасов в наших головах, но все же даже эти неуловимые недосказанности очень меня печалили. Но одно дело – помалкивать о том ужасе, который охватывал меня всякий раз, когда пора было забирать нашего сына из детского сада, и совсем другое – не сказать тебе: ах, да, кстати – я сломала ему руку. Какими бы отвратительными ни были мои мысли, они не занимали места в моем теле, в то время как хранение трехмерного секрета ощущалось так, словно я проглотила пушечное ядро.
Ты казался таким далеким. Когда ты раздевался перед сном, я смотрела на тебя с тоской призрака, почти ожидая, что, когда я пойду в ванную чистить зубы, ты шагнешь сквозь мое тело легко, как сквозь лунный свет. Наблюдая, как ты на заднем дворе учишь Кевина ловить бейсбольный мяч здоровой рукой в перчатке – хотя, если честно, с пиццей у него получилось лучше – я прижимала ладонь к нагретому солнцем оконному стеклу, словно к духовному барьеру, и меня пронзало то же головокружительное, доброжелательное и болезненное чувство изгнанности, которое мучило бы меня, будь я мертва. Даже когда я клала руку тебе на грудь, мне