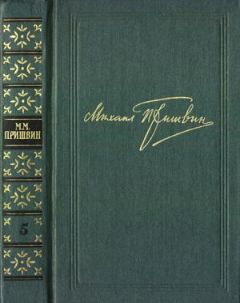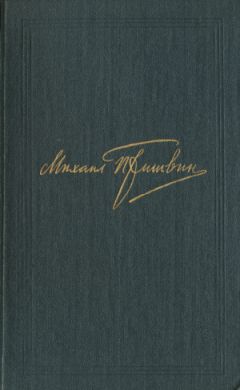А птички-то! Птички играют свое:
«Выпьет – не выпьет?»
– Нет уж, товарищи, – сказав я им, – теперь больше не спорьте: теперь я добрался и выпью.
Так это ладно пришлось, что когда я лег на живот, то мои запекшиеся губы сошлись как раз с холодными губами гриба. Но только бы хлебнуть, вижу перед собой, в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке спускается в грибное блюдце паучок. То ли он это поплавать захотел, то ли ему надо напиться.
– Сколько же вас тут, желающих! – сказал я ему. – Ну тебя…
И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.
Возможно, я это от жалости к своему другу вспомнил о старом грибе и вам рассказал. Но рассказ о старом грибе – это только начало моего большого рассказа о лесе. Дальше будет о том, что случилось со мною, когда я напился живой воды. Это будут чудеса не как в сказке о живой воде и мертвой, а настоящие, как они совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши – не слышим.
В Ельце, на Манежной улице, – не знаю, как она теперь называется, – есть дом братьев Горшковых, большой двухэтажный дом с колоннами. В нижнем жил хозяин дома старик Петр Николаевич, а верх снимала моя мать. В глубине двора этого дома, с выходом в сад, стояла баня, и в ней жил брат владельца каменного дома с колоннами, художник Михаил Николаевич Горшков.
Дом был большой, и, наверно, художник мог бы найти себе место, но жить в бане, окруженной деревьями, было одной из его причуд. Второй причудой художника было питаться одной гречневой кашей и никого не затруднять ее приготовлением: был он холост и не держал прислуги. Третьей причудой его было вечное странствование «на своих на двоих». Ранней весной он уходил и возвращался осенью, когда поспевали яблоки. Мы, ребята, приходили к нему за яблочками, ели у него их целыми днями, и он не уставал беседовать с нами, маленькими, как со взрослыми.
Он рассказывал, нимало не считаясь с нашим возрастом, мы ничего не понимали, но благодаря этому рассказу его открывалось нам чувство возвышенного. Хитрец или простец, он приводил нас в сферу возвышенного только тем, что считался с нами, как со взрослыми. Не мы одни ходили в баню к художнику, но и многие взрослые люди. И разговоры были часами, днями, ночами о таких вещах, каких мы тогда понять не могли.
Никто из нас никогда не видел, чтобы Михаил Николаевич писал что-нибудь. Только один раз он поставил меня под березу и написал меня и березу до того прекрасно, что я теперь ни с чем не могу это сравнить. Вдруг он перестал писать и позвал меня:
– Смотри, хорошо?
Все было хорошо – я и береза, а неба не было.
– Почему неба нет? – спросил я.
– Вот из-за неба-то все и остановилось, – ответил он. – Смотри, какое оно прекрасное, и я не осмелился: как это я такое прекрасное буду мазать белилами.
После того он приписал мне в рот папиросу, пустил дым, и потом из этого дыма стали складываться облака и закрыли меня и березу.
– Что же это такое? – огорченно спросил я.
– А вот и смотри теперь на небо: какая гадость вышла у меня и как прекрасно оно там.
Некоторые в городе говорили: «Какой он художник, если ничего не пишет!» И смеялись: «Чудак!» Другие говорили: «Он прекрасный колорист, его ближайшие товарищи и друзья – Репин, Васнецов, Маковский». Третьи говорили, что на чердаке дома под замком хранится его большая замечательная картина «Фауст». Четвертые – что никакого «Фауста» нет, и не художник он, и что уж какой тут Репин: просто чудак, и что у них это в роду: брат Петр – кулинар и думает только о еде, Валентин – наездник, Владимир – музыкант для себя, Михаил – художник для себя…
И вдруг весь город был потрясен необычайным событием: в город приехал Репин и направился прямо в баню к Горшкову; там он пробыл несколько дней, написал портрет Михаила Николаевича и уехал. Тогда все бросились в баню смотреть портрет, и я тоже, конечно…
Прошли десятки лет, среди которых был год, когда мне кто-то сказал: Михаил Николаевич Горшков умер. И после этого слуха прошло еще много лет.
Однажды я пришел в Тенишевский зал в Ленинграде на лекцию Чуковского о Некрасове. Не помню, то ли я рано пришел, то ли запоздал лектор, но вышел значительный промежуток времени между моим приходом в зал и началом лекции.
– Смотрите, – сказали мне, – вот и Репин идет.
Я стал у стены. Репин прошел мимо меня и сел в первом ряду. Это был старичок, худенький, небольшого росту.
Я один раз до того слышал его выступление на большом съезде художников, и его манера говорить поразила меня и на всю жизнь вдохновила. Он говорил не так, как ораторы говорят для отвлеченной аудитории, а как говорит кто-нибудь для семьи своей или друзей дома. Мы во время речи Репина, очень смелой, освобождались от условностей, становились большой семьей, людьми, родственно связанными своим служением общему делу.
С тех пор Репин, конечно, постарел, подсох, но все же это был Репин. Мне вспомнилась его речь и очень захотелось перекинуться с ним двумя-тремя фразами.
– Как бы мне с ним познакомиться? – спросил я.
– С Репиным? Да разве можно знакомиться с Репиным! У него и незнакомые – все знакомые. Подойдите просто к нему и приветствуйте.
– Здравствуйте, Илья Ефимович! – сказал я, подсаживаясь к Репину.
– Здравствуйте, милый мой! – ответил тот. – Что это вас давно не видно? Откуда вы приехали? Тут я соврал:
– Из Ельца, – говорю, – приехал.
– Из Ельца… Ну, рассказывайте, как там живопись в соборе, не чернеет? Только пройдемся в буфет чай пить, поговорим, пока Чуковский начнет.
Так я познакомился с Репиным и сел с ним за чай, как совершенно хорошо знакомый, свой человек. Правда, он не знал моего имени, не знал, чем я занимаюсь. Но в общении с ним это меня не смущало. Казалось, будто это все личное мое неважно, а самое главное, общее, входящее в каждого человека, составляющее как бы всего человека, он знает, и это одно было важно и для него, и для меня.
Я рассказал ему о живописи в соборе, который он реставрировал, о елецких купцах, о елецкой муке, о блинах, и так мало-помалу подошел к его другу Горшкову.
– Талантливый он был художник? – спросил я.
Он немного подумал, поморщился.
Нет! – сказал он решительно. Потом еще подумал, вдруг весь встрепенулся, сразу посветлел и еще решительней сказал:
– Да, но он был гениальный!
После того раздался звонок, и мы, не торопясь, пошли на Чуковского.
Десятки лет прошли с тех пор, и сколько раз по ночам, когда не спится, вставал неразрешенным старый вопрос: как это можно быть не талантливым, а гениальным? И я так себе отвечал: можно быть гениальным человеком и неталантливым художником. И когда я так разрешил себе этот вопрос, встал другой: что же лучше – быть гениальным художником и паршивеньким человечком или, наоборот: плохеньким художником и гениальным человеком?
Вопрос остается для меня нерешенным, потому что в жизни своей я видел несколько гениальных художников, но все они были люди достойные. И не могу вообразить себе такого, чтобы он был и гениальный художник, и скверный человек. А Горшков, значит, не как художник, а чем-то иным оправдал в себе человека. Чем? Так и осталась мне загадка. И я до сих пор думаю над ней.
Собрались пожилые люди и затеяли что-то вроде игры: каждый по очереди должен был ответить, в каком человеческом возрасте он себя сейчас ощущает. Люди под пятьдесят отвечали, что чувствуют себя тридцатилетними, за шестьдесят – двадцатилетними, а когда дошло до меня, самого старшего, то я ответил, что бывает у меня по-разному, но в среднем обычном моем хорошем состоянии здоровья чувствую себя мальчиком. И знаю наверно, что я не один, пожилой человек, так себя чувствую и что скорей всего лучшее, чем могут почтить молодые люди своих дедов и отцов, это оказать внимание рассказам их о тех временах, когда были они, старые люди, тоже детьми. На этом основано в народе естественное воспитание сказками: деды и отцы рассказывают – ребятишки слушают и учатся.
Послушайте же, молодые люди, переживающие в наши дни события мирового значения, о времени, когда нынешняя действительность была нашей мечтой и делом, требующим непременно от каждого из нас жертвы и личного подвига.
В это время я был юным студентом Рижского политехникума. В то время преподавание там велось на немецком языке, и я поступил в институт отчасти, чтобы выучиться по-немецки, а отчасти потому, что в Риге все было для меня ново. Кажется, года два я поучился хорошо на химическом факультете и подавал надежды в будущем стать хорошим инженером. Были и русские среди студентов, и особенно выделялись среди чистеньких немцев революционные народники в их нарочито потрепанных костюмах. Вождем у них был некий Богомазов, воспитанный на жалости к людям Глебом Успенским. Меня к этим людям не тянуло, потому что я сам вырос на этих дрожжах, и хотелось мне чего-то другого, и, может быть, даже самый выбор Риги был во мне вызовом нашему семейному народничеству.