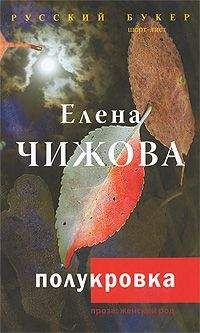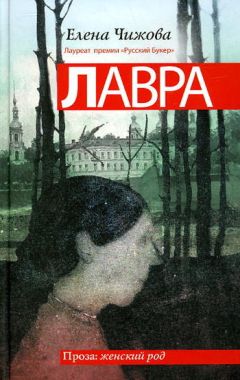Процессия встала. Скорее удивленно, чем испуганно, отец Иаков смотрел, ожидая. "Мне нужно поговорить с вами", - я сказала пустым и твердым голосом, совладав с собою. "Слухаю", - он произнес тихо и покойно, зачем-то по-украински. "Нет, - я сказала, - нет, пусть они все отойдут". Помедлив, он махнул, не обернувшись. По мановению черные пары взялись с места и отступили назад, не нарушив строя. Мертвая тишина, словно меня уже пристрелили, стояла над монастырским двором, когда я заговорила прямо, не подбирая слов. Я говорила о том, что приехала из Ленинграда, там - совершенно иная жизнь, если венчаешься - сообщают, от своих грехов не отрекаюсь, но никогда не позволю прелюбодейка! - как этот ваш старик. Он думал. Черная пелена сходила с моих глаз, когда я смотрела и видела, как он думает. "И что вы хотите?" - отец Иаков спросил по-русски, будничным голосом, как спрашивают по хозяйству. "Он оскорбил меня, вы за него отвечаете, значит, вы должны... повенчать". Оно сказалось само, помимо меня, пролилось, как вода, нашло короткий выход. "Это мужской монастырь, здесь - не венчают", - он повторил строгие хозяйские слова. "Но оскорбляют..." - я повторила непреклонно. "Ты... вы, вы приехали с мужем?" По его прищуру я поняла: догадался. Да, с мужем, я назвала имя. "Хорошо, - он заговорил тихо, - то, о чем вы сказали, - нарушение. Чтобы исправить, мы снова нарушим. Завтра, в семь утра, в подземной церкви. Ни одна душа не должна знать". Кивнув, он прошел мимо, оставив меня посреди выжженного до черноты пространства.
Процессия вошла в храм, но толпа и не думала расходиться. Тысячью глаз они смотрели, как я иду обратно, ступая по пыльной площади, словно, достигнув последней - предполетной - ступени, возвращаюсь назад, нащупывая крутой, оставленный телом, склон.
С отцом Иаковом мы больше не встречались. Через год, когда муж повез Иосифа, отец Иаков вспомнил обо мне и передал золотой крестик. Еще через год до меня дошли слухи, что он погиб насильственной смертью. Сумасшедший, сбежавший из скита, прорубил ему голову топором. Его нашли на земле, уже истекшим кровью. Когда я думаю об этом, я вспоминаю пыльную площадь, черные фигуры и голос, говорящий о том, что, исправляя, надо нарушить.
Муж смотрел на меня с ужасом. Возвратившись, я коротко передала случившееся и, не вдаваясь в подробности, сообщила, что уже поговорила с настоятелем, нас венчают завтра, в подземной, в семь часов утра. Он сидел, озираясь, как оглушенный.
Потрясенная случившимся, я то проваливалась в тяжкий сон, то всплывала из глубины, чувствуя коченеющие ноги. Всю бесконечную ночь я слушала шаги за стеной. Кажется, муж так и не лег. Сквозь короткое забытье я представляла, что, венчаясь, отнимаю его у церкви, и эта мысль казалась мне спасительной. Владыка Николай, вознамерившийся рано или поздно закрыть глаза на второбрачие, через венчание не переступит.
Утром я поднялась до рассвета. Выскользнув во двор, я огляделась. Серый туман, похожий на низкие тучи, стлался над огородом. Протянув руку, я шевелила пальцами, щупала мокрые клочья. Влажная туманная взвесь обволакивала меня, словно я, неведомой силой, уже стояла на облаке, плывущем в поднебесье. К половине шестого, когда мы выходили из дому, туман еще не рассеялся. Ежась от холода, мы шли вдоль заборов, торопясь к дальним воротам, откуда, незаметная с площади, открывалась узкая каменная лестница. Лицо мужа было бледным и потерянным. Вспоминая свои ночные мысли, я истолковала его состояние по-своему.
На верхней ступени стоял молодой послушник, лет двадцати. Выслушав наше приветствие, он кивнул безмолвно и указал на свое горло.
Мы спустились по лестнице и, пройдя каменным коридором, оказались в маленькой комнате, заставленной по углам коваными сундуками. Тусклая электрическая лампочка проливала слабый свет. Открылась боковая дверь, и вошел незнакомый старец, облаченный в фелонь. Подойдя к нам, он поздоровался приветливо и бросил короткое приказание. Безмолвный послушник исчез в боковой двери. "Кольца есть?" - И, получив отрицательный ответ, пошел к сундуку. С трудом приподняв крышку, он достал круглое блюдо. "Выбирайте", - поставил и вышел из комнаты. Словно крупными ягодами, блюдо полнилось перстнями. Перстни были старинными - королевскими. Отливая тусклым золотом, они горели, как груда углей, - всеми камнями. Робко протянув руку, я коснулась крупно ограненного изумруда. Закрепленный на вогнутой площадке, он бросал зеленоватый отсвет на мелкие соседние камушки. Надев на палец, я поразилась величине: перстень закрывал целую фалангу. Муж тоже выбрал - с рубином. Священник вошел неслышно, стоя за дверью, только и ожидал, когда выберем. "Следуйте за мной. Сейчас подойдут послушники, подержат венцы. Никто не должен знать", - он повторил предупреждение. "А они?" - я спросила, не подумав, имея в виду послушников. "Эти не скажут, молчальники, дали обет - на пять годов", - он объяснил буднично, словно пятилетний обет молчания был делом обыкновенным.
Послушники возвратились с венцами. Все время, пока мы с мужем стояли у аналоя, они держали их над нашими головами. Идя вокруг, против солнца, я видела, как, поспевая следом, послушники не поднимают глаз. Обряд показался коротким. Сложив книгу, священник предложил целоваться. Мы обернулись друг к другу и ткнулись щеками неуклюже. Мгновенно я вспомнила фильм "Метель": когда, поцеловав другого, невеста упала в обморок.
Священник отпустил послушников и удалился в алтарь. Я сняла с пальца и держала на ладони. Он вышел и, приблизившись, передал разрешение отца Иакова: "Если хотите, можете забрать с собой". Тихий голос выделил оба слова, и, покачав головой, я отказалась, протянув. Ни слова не говоря, он забрал и вернул на поднос. Тяжелая крышка поднялась снова, и обручальные кольца опустились на дно. Огромная усталость легла на сердце: обряд, свершившийся ценой договоренности, забрал последние силы.
"Вы хотели исповедаться?" - священник подошел и осведомился, словно исполнял чужую, подробно высказанную волю. "Пойдемте", - и повел меня к двери, за которой скрылись немотствующие послушники. В смежной комнатке он прочел молитву, глянул в мои глаза и приступил. Еще много лет, вспоминая странную исповедь, я задавалась вопросом: что же такого он прочел в моих глазах, если первое и единственное, что было спрошено, объединяло детство, чтение и воровство? "Не случалось ли так, в детстве, ты взяла почитать чужую книгу, а в ней - бумажка, три рубля... книгу вернула, а деньги - себе?" Пораженная, я добросовестно старалась припомнить, представляя зеленую бумажку, заложенную меж страниц - закладкой. Она рябила в глазах, отвлекая от главного. Случись подобное в действительности, но, положим, с бумажкой другого достоинства, я ни за что не сумела бы припомнить: трехрублевая зелень рябила явственно, застила все остальное. "Нет, - я ответила честно, - нет, я не воровала никогда". "Хорошо", - он отвел глаза, предложил мне склонить голову и прочел разрешительную молитву.
Причастилась я на Успение. По дорогам, ведущим к городу, шли и шли паломники, сумевшие подгадать точно к Празднику. Стоя на кукурузном холме, с которого в первый памятный день увидела купола, я смотрела, как, подходя к городу, они крестятся на высокую колокольню. Мои глаза различали стариковские лица, заросшие комковатыми бородами, белые бабьи платки, похожие на банные, и живые лица мальчишек-подростков, взятых с собой в помощники и поводыри. Звуки баяна, певшего в инвалидных пальцах, стояли в моих ушах. Издалека они казались тонкими и прерывистыми - визгливыми.
Утренний храм был полон до отказа. Никогда, ни раньше, ни позже, я не знала такой мучительной полноты. То здесь, то там взлетали женские придушенные возгласы. Женщины стояли впритирку, касаясь друг дружки распаренными телами. Жар струился сквозь кофты, стоял под складками юбок. Уголками белых платков женщины стирали пот со лба и губ, и белые тряпичные концы час от часу становились мокрыми. Лица мужчин, одетых в шерстяное, покрывались торжественным багрянцем. Деготный запах сапог, привычных к дорожным обочинам, мешался с духом распаренных, бормочущих ртов. Ближе к концу литургии, перед самым причастием, в собор внесли младенцев, и тягостный детский плач повис над толпой. Причастники пошли вперед на исходе третьего часа, и плач младенцев смешался с криками детей постарше. Некоторые из детей вырывались отчаянно и оглашали своды ревущими голосами. Другие шли к причастию, послушно складывая ручки, и, проглотив частицу, теснились у стола с тепловатой запивкой. За детьми настал черед взрослых. Дожидаясь своей очереди, я смотрела на лица отходивших, по которым, стирая усталость, пробегала гримаса сосредоточенной радости. Не расцепляя рук, сложенных на груди, причастники сливались с толпой. Далекий монашеский хор лился тихо и слаженно: "К телу Христову приди-и-те, источника бессмертного вкуси-и-те..." - и опять, снова и снова. Жаркие пары толпы держали меня плотным, непродыхаемым облаком. Почти теряя сознание, я двигалась вперед за чьей-то белесой спиной. Видение женщины, падавшей навзничь, встало пред глазами. Как наяву я видела ее выгнутое тело и боялась упасть, не дойдя до чаши.