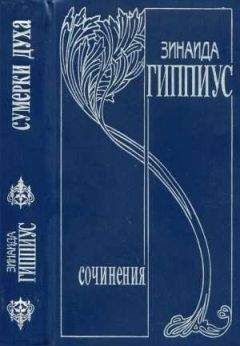– И не могу, и не буду, если вы под этим словом подразумеваете несчастие внешнее, обусловленное внешними причинами. Свет и тьма – все идет изнутри. Остальное мы должны победить.
– Увы, Геннадий Васильевич! Я не умею, подобно вам, резко провести границу между внешним и внутренним. И многое, многое из того, что вы, быть может, победили бы – заставляет меня страдать. Я не знаю вас, иногда мне кажется только, что я вас угадываю… и я боюсь тогда, что вы ошибаетесь, что вы можете быть несчастным… как я, потому что я очень несчастен. Мне хочется быть откровенным сегодня, простите меня. Я даже скажу вам, отчего я несчастен. От красоты. Понимаете ли вы, чувствуете ли вы красоту так, как я? Имеет ли она над вами беспредельную силу, как надо мной? Во всех своих проявлениях, с тех пор, как я живу, – красота меня покоряет, я ее раб, я позволяю ей делать со мной все, я борюсь иногда, восстаю – и опять падаю, опять мучаюсь, и душа моя в ранах.
– Вы говорите так образно и вместе с тем так обще, что я с трудом улавливаю суть ваших слов, – мягко возразил Кириллов. – Я не совсем понимаю, почему красота заставляет вас страдать. Истинная красота гармонична, она может только дать нам вдохновение, поднять дух на бесконечную высоту, открыть пути к познанию правды… Красота, как я ее понимаю, есть предтеча правды.
Звягин грустно усмехнулся.
– Красота гармонична? – повторил он. – В том то и ужас, что красота может быть не гармонична. Она может противоречить себе в самой себе, и все-таки это красота – только с проклятием, с отчаянием, со смертью. Я чувствую глубокий разлад мира, я хочу понять и победить его. А ваш мир, Геннадий Васильевич, построен слишком правильно, слишком строго и ясно, линии слишком прямые… Вас красота, вероятно, ласкает и вдохновляет к стройным и свежим мыслям…
Тут в голосе Звягина неожиданно проскользнула полувидная, тонкая насмешливость, такая тонкая, что Кириллов ее не заметил.
– Меня – она душит, – продолжал Звягин, – ест мое сердце, возмущает, изумляет широтой противоречий, соединением несоединимого, вызывает на смертельную борьбу с нею… И чувствуется, что та гармония в красоте, о которой вы говорите и которой жаждет душа, – недостижима… И только потому так желанна. Недостижима для нас, пока мы здесь, для мира, который мы видим… В здешней истине – нет красоты, как в здешней красоте – нет правды.
– Я положительно не согласен с вами, – произнес Кириллов горячо – и встал с места.
Свечи делались короче и освещали снизу его вдруг покрасневшее лицо.
– Я не согласен, – повторил он. – Я почти не понимаю вас, в ваших мыслях нет последовательности. Вы говорите о красоте, истине, о понятиях, уже обусловливающих гармонию, – и вы ищете в них противоречий. Я вам сказал, что красоту считаю одним из путей к правде. В моем понимании красота и правда уже соединены. Одно без другого быть не может. Вспомните великих деятелей литературы, науки; их лучшие вдохновения руководились лишь чувством истины.
Глубокому сердцу открывается мир красоты и правды. Мир, на который вы намекнули, сказав «не здесь», – этот мир и есть мой дух. И в этом мире красота навек соединена с правдой в полной гармонии. Ничто жизненное не коснется этих отвлеченных глубин. Я говорил вам, что всякие, могущие быть, внешние восприятия, в обыденном смысле слова, я не принимаю в расчет. И когда мы затрагиваем вопросы столь важные для меня – смешно было бы соединять их с жизненным потоком.
Звягин опять улыбнулся.
– Мы просто говорим о различных предметах, да и люди мы разные, – проговорил он. – Я, впрочем, вас понимаю – только вы меня не хотите понять. У меня душа болит и плачет, Геннадий Васильевич. Простите, что я так говорю с вами. Но я сам, мне кажется, только теперь понял, как я несчастен – и мне хочется говорить об этом. И еще мне кажется, что я вас очень люблю. Вы молоды… Ведь вы гораздо моложе меня? И я боюсь, что когда-нибудь теории ваши не выдержат напора жизни – и вы будете несчастны, как я. Вот, пью до последней капли за то, чтобы этого не случилось. Мы – разные люди. Мы оба хотим справедливости, красоты, истины. Но я ищу с борьбой, с болью, со скрежетом зубовным, с проклятиями, не веря, что найду, – и кровь, и кости моего тела в этой борьбе, и я уже порой не различаю, где дух и где тело. А вы отправляетесь искать Бога на вершины, где холод, лед и тишина. Вы его находите, не желая победы над ним… И если поток жизни становится слишком своевольным – вы сумеете направить его течение. Прекрасно, если это так. А если нет? Если между нами меньше различия, чем вам кажется? Если и вас ждут мучения лжи, как ждали меня? Поверьте, если мы можем любить одну…
Он произнес последние слова совсем тихо, потом вдруг встал, прервав речь почти на полуслове, и отошел к стене. Кириллов тоже стоял. Мгновенье они смотрели друг другу в глаза молча. Кириллов – опираясь ладонью на стол, Звягин – плотно прижавшись к серой стене, весь как-то съежившись.
И Звягин прервал молчанье первый.
– Это все от того, что я вас так полюбил, Геннадий Васильевич, – проговорил он вкрадчиво, опять с едва заметной насмешливостью. – Может быть, я говорил вздор, забудьте его. Я сам не знаю иногда, что я говорю, и мне потом все сказанное – искренне кажется вздором. Жизнь так разнообразна, что чем разнообразнее мысли о ней, разнообразнее и даже противоречивее – тем ближе мы к отгадке. Возможно, что и вы правы, возможно, что и я. Я все допускаю. Только если мне больно – я кричу и стараюсь избавиться от боли. Как избавиться – не все ли равно? Вот вы сердитесь на меня теперь, Геннадий Васильевич. А ведь я скоро умру.
Кириллов вздрогнул и пристально посмотрел на собеседника. Он по-прежнему плотно стоял у стены и почти сливался с нею. Свечи мерцали, пламя прыгало – и останавливалось, и опять начинало прыгать, и неясные очертания таяли в этом колеблющемся свете.
– Вы умрете? Почему умрете?
– Так. Я знаю. Это решено. Не помню, когда решилось, даже не представляю себе ясно, как это будет, но будет. Все в тумане еще, но знаю, будет. Я не хочу умирать, боюсь умирать… А между тем надо. Кольцо все уже, все теснее. Иногда я не думаю об этом, но кольцо продолжает сжиматься и, вспомнив о нем, я вижу, что оно стало гораздо теснее. Что-нибудь надо сделать, Геннадий Васильевич!
Кириллов вдруг взял стул, поставил его прямо перед Звягиным, близко, сел и заговорил тихо, глядя прямо в лицо собеседника блестящими глазами:
– Послушайте, я понимаю, о чем вы говорите, но это не должно иметь места. Мы различны в наших индивидуальных особенностях, но вы верно заметили, что и точки соприкосновения у нас есть. Буду с вами также откровенен: я помню время, когда я сам много думал о смерти, то есть о… о самоубийстве. Какие к тому у меня имелись поводы – все равно, дело лишь в том, что теперь, через годы, я, исключительно путем логическим, дошел до убеждения, что подобные мысли – плод несозревшего мозга. Я не могу с вами в несколько минут пройти этот тяжелый и долгий путь. Но поверьте, что у нас есть защитник от наших мгновенных слабостей, оружие для борьбы с ними. И эта защита – разум, умственное движение, философия. Философия сводит к единству всю сферу человеческих познаний, открывает новые горизонты для мышления посредством сочетания тех истин, которые добыты в разных областях научного исследования. Философия закаляет наш дух, как пламя закаляет сталь…
Слова звучали с необыкновенной отчетливостью и что-то безнадежное было в их сухом и мертвом соединении.
– Но, быть может, не делает гибким, как сталь… – возразил Звягин тихо. – Нет, Геннадий Васильевич, вы мне теперь не поможете. Вы довольствуетесь высокими утешениями, примиряясь, и даже мало думая о том, что волны жизненного потока мутны. А у меня каждая кость болит, мне душно, тесно и страшно…
Он вдруг отошел, точно оторвался, от стены, сделал несколько шагов, выпил залпом оставшееся в бокале вино и опустился в кресло, где прежде сидел Кириллов.
Кириллов взглянул на него молча, поднялся, прошел по комнате.
– Нет, – произнес он раздумчиво, как бы говоря с самим собою. – Нет. Все-таки вы, Лев Львович, такой человек… Вы себя никогда не убьете.
Глаза Звягина сверкнули, как будто собеседник нанес ему оскорбление, которого он давно боялся.
– Никогда? – произнес он громче, изменившимся голосом. – Почему вы это думаете? Какое право вы имеете так думать?
Казалось, он отвечал не Кириллову, а себе, своим собственным злорадным мыслям, знакомым и страшным. Кириллов взглянул на него с удивлением.
– В моих словах не было ничего оскорбительного для вас, Лев Львович, – проговорил он. – Мое мнение относительно самоубийства вы знаете. И мне кажется, что вы никогда не решитесь на такую вещь.
– А на что же я решусь? Что же мне сделать, скажите, вы, счастливый человек?
Звягин вплотную подошел к Кириллову и смотрел ему в лицо темными, близко поставленными, глазами. В них было и отчаяние, и вдохновение, и какое-то истерическое любопытство.