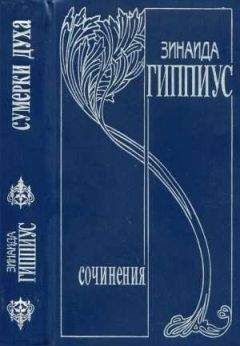Это были звуки музыки. Хорошо ли играл проходивший вдали полк, каков был мотив – разобрать казалось невозможным – да и не все ли равно? Валентина остановилась. Новая волна неясных чувств прихлынула к душе. Звуки открытые, дальние, ясные в редком и чистом воздухе, свободно уходили вверх, к сияющим небесам. И воздух, и солнце, и небо дали этой земной, почти грубой музыке божественную прелесть.
Валентина почувствовала в горле непонятные слезы. Ей хотелось, как давно, в детстве, мысленно назвать Бога, не просить Его, не благодарить, – только назвать – и радоваться жизни, умиляться жизнью и чувствовать с каждым ударом сердца ее красоту, полноту и силу…
Звуки музыки становились все тише, тише и, наконец, замолкли. Валентина очнулась, вздохнула глубоко, как дети вздыхают после долгого плача, и медленно пошла вперед.
Она не думала больше об Эрмитаже. Было уже поздно, да и не хотелось ей с яркого воздуха идти под серые и сумрачные своды. Она шла прямо, дошла до конца Марсова поля, повернула налево, через мост, потом направо, мало соображая, почти не замечая, куда ведет дорога.
XXI
Звуки знакомого голоса заставили ее обратить внимание на идущих впереди.
И Валентина, даже не вглядываясь, узнала Звягина. Он был не в своей широкой шубе, а в пальто с барашковым воротником и казался гораздо изящнее, как-то аккуратнее. Он шел в середине, между двумя молоденькими девушками, одетыми очень скромно и просто. Из-под коротеньких кофточек виднелись синие платья с черными передниками, связки книг обличали пансионерок. У одной из девушек, повыше и постройнее, вдоль спины лежали две толстые, с рыжеватым оттенком, косы.
Звягин что-то говорил своим спутницам горячо и громко, они слушали его, не прерывая.
Валентина весело улыбнулась.
«Ай да Лев Львович, – подумала она, следуя в нескольких шагах за интересной группой. – Совсем по-профессорски, со слушательницами гуляет. И наверно хорошенькие, в особенности эта, с белокурыми косами. И внимает ему как благоговейно. Ведь он очень умен, Звягин…»
Валентина вспоминала дни их дружбы, минуты, когда она не чувствовала его любви, а только видела, что они многое понимают почти одинаково, многие мысли их сходятся.
Он так любил ее! Он столько страдал… Правда, он любит страдать, и страдания его всегда, думала Валентина, не очень глубоки… А может быть, она просто не вгляделась в этого человека, может быть – он глубже, чем ей казалось, и страданья его были истинной болью?
В том радостном, счастливом настроении, в котором она была – ей стало жаль Звягина, захотелось знать его не страдающим, счастливым. Но он, вероятно, и счастлив. Нужно ли заговорить с ним? Не лучше ли оставить его с его ученицами продолжать живой разговор?
Пока Валентина раздумывала, они подошли к углу. На повороте Звягин вдруг оглянулся и сейчас же остановился. Удивленные девочки тоже остановились.
Валентине не было выбора. Она ускорила шаг, приблизилась к Звягину и, улыбаясь, подала ему руку.
– А я давно иду за вами, Лев Львович, – сказала она весело и прибавила, – ваши ученицы?
– Да… Позвольте вас представить…
Валентина пожала тоненькую ручку Лизы Гейм и немного дольше остановила взор на узком, бледном до прозрачности личике с большими, зеленоватыми глазами, которые взглянули на Муратову из-под ресниц недоверчиво, почти угрюмо.
– Вы так оживленно разговаривали. Можно узнать о чем? спросила Валентина. И, не дождавшись ответа, продолжала приветливо: – Что вы никогда не зайдете ко мне, Лев Львович? Приходите, я соскучилась. Приходите как-нибудь на днях.
Звягин с первого мгновения заметил оживление, почти счастье на лице Валентины, влажный блеск потемневших золотых глаз, возбужденные и красивые переливы голоса.
«Что с ней?» – подумал он – и не хотел, ни за что не хотел ответить себе на этот вопрос и весь замер и сжался, как замирают, ожидая услышать весть смерти.
Валентина смеялась и шутила.
Звягин собрался о чем-то спросить ее, но вдруг Лиза Гейм, до тех пор молчавшая, резко и внезапно проговорила:
– Нам некогда стоять, m-г Звягин, извините. Пойдем, Катя. До свиданья.
И сухо, почти невежливо подав руку Муратовой, она пошла прочь. Удивленная Серова недоумело последовала за нею. Валентина уловила на этот раз взгляд ненависти, брошенный на нее Лизой.
– Я вас сейчас догоню, mesdames, – крикнул им вслед Звягин. – У вас мои тетрадки.
– Я вас задерживаю? – спросила Валентина, слегка сжав брови. Она хотела рассердиться на Лизу, но не могла и, через секунду поняв, что происходит, опять весело и широко улыбнулась.
– Какая хорошенькая девочка, – произнесла она не без лукавства.
– Я хотел спросить вас, Валентина Сергеевна… – начал Звягин.
– О чем? Спрашивайте. Я сегодня в отличном настроении и готова отвечать на все вопросы, исполнять все просьбы…
– Нет, ничего. Я так… Я вижу, что вы в отличном настроении. А я вот должен спешить.
– Так до свиданья, Лев Львович, торопитесь, а то не догоните барышень… Приходите же ко мне вечерком. Ведь мы старые друзья. Придете?
– Очень вам благодарен. Может быть… Я постараюсь. Не знаете ли вы, где теперь Геннадий Васильевич? В Москве? – прибавил он неожиданно.
– Кириллов? Да. Он в пятницу приедет сюда. В пятницу, через два дня. Я только сегодня получила от него письмо.
Звягин почувствовал, что тяжелый, старый камень, который висел давно – вдруг оторвался и сразу упал в самую глубь души. Что-то изменилось бесповоротно, что-то решилось у него в сердце помимо его воли и мысли в это короткое мгновение.
Должно быть, он побледнел, потому что Валентина сказала ему:
– Вы плохо выглядите.
И, повторив еще раз, чтобы он пришел, она подала ему руку. Он молча пожал эту руку и повернулся, намереваясь уйти.
– Лев Львович! – окликнула его Валентина. – О чем же вы меня спросить хотели?
Звягин оглянулся и несколько секунд смотрел ей в лицо тупо, не слыша ее слов.
Потом опомнился, пробормотал что-то, приподнял шляпу и быстро пошел прочь.
Валентина взяла извозчика и поехала домой. На губах ее бродила рассеянная улыбка, глаза следили за сквозными белыми облаками, которые теперь тянулись по небу.
Валентина думала не о Звягине.
XXII
В пятницу, семнадцатого января, Кириллов действительно приехал в Петербург.
Приехал он утром, часу в двенадцатом, и с вокзала не велел себя везти в Angleterre[35], где ранее всегда останавливался, а решил на этот раз взять номер в Северной гостинице. Тут ближе, сейчас с вокзала – да и не все ли равно какая комната? Гостиница останется гостиницей, этому надо покориться.
Кириллов был в дурном расположении духа. В вагоне он провел бессонную ночь. Дела складывались так, что дольше трех дней он никак не мог остаться в Петербурге, да и эти три дня урвать ему было трудно. Письма Валентины за последнее время, несмотря на нежный, почти любовный тон, не нравились ему. Он не мог бы объяснить, что в них неприятного, но они ему не нравились.
Не нравился Кириллову и поспешный отъезд Валентины из Москвы. Зачем было так торопиться? Агриппина Ивановна, когда сын сказал ей, что Муратова уехала, даже не поверила в первую минуту.
– Как уехала? Зачем уехала? – добивалась она. – Не могла уехать. Ведь она же обещала у нас побывать. И я к ней собиралась. Как же так уехать? Не познакомились путем, ничего…
Геннадий Васильевич, запинаясь, пытался объяснить матери, что у Муратовой дела.
Агриппина Ивановна умолкла, только пристально посмотрела на сына и покачала головой.
Тут в первый раз Геннадию Васильевичу пришла мысль, что Валентина, может быть, не очень понравилась матери. Но это укололо его так больно, что он сейчас же стал вспоминать, как долго Валентина сидела у них и как сердечно и хорошо говорила с ней Агриппина Ивановна.
Теперь, провожая сына в Петербург, она сказала ему только: «Поклонись же Валентине Сергеевне», – крепче обыкновенного обняла его, благословила молча и опять долгим и нежным взором посмотрела ему в глаза.
Геннадий Васильевич знал, что она хочет сказать этим взором. Он с глубокой любовью молча поцеловал руку матери и уехал.
Он понимал ее душу. Он все кругом видел и чувствовал, как она, – не подчиняясь ей, а искренно и сознательно соединяя ее понимание жизни со своим – и, как всегда, в мыслях давал себе обещание не отступать от этих прямых и ясных взглядов.
Но все-таки что-то смущало его. Торжественное, молчаливое и печальное благословение матери, дорожная усталость, ожидаемое свидание с Валентиной…
Особенно это свидание. Раньше восьми или даже девяти часов пойти к ней никак нельзя, она не ждет, ее, пожалуй, и дома нет.
Перед тусклым зеркалом дешевого номера Кириллов пригладил волосы. Они у него всегда лежали гладко, бледные и ровные. Он давно не стриг их и теперь они, разделяясь сбоку, падали прямыми прядками немного ниже ушей. Кириллов смотрел на свое отражение, не видя его.