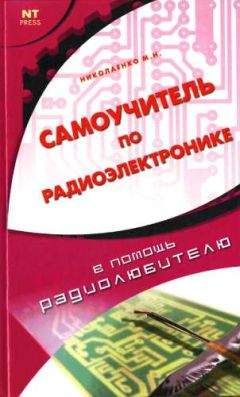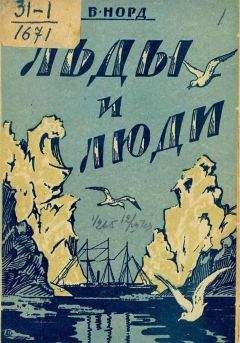повел себя странно: оглянулся на окна нашей палаты, схватил под рукав, отойдем, говорит, подальше. Что за тайны двора мадридского в нашей жизнью покинутой богадельне – от воробушков да грачей…
Отошли, присели на лавочку. Говорит мне на ухо он заговорщиком:
– Знаешь ли, что он пишет?
– Да кто пишет-то?
– Наш-то, Лазарь…
– Да что пишет? Рассказики как рассказики, мне-то что?
– А вот то-то, то-то, что что! – И опять он цап меня за рукав, теребит.
Вижу, что-то неладное с ним творится. Понял он мое беспокойство. Все нормально со мной, говорит, ты дослушай.
Вышло дело вот как: случилось у него расстройство желудка, и в обед все мы, кто в палате нашей, пошли в столовую, и я тоже пошел, а он не пошел, остался.
«…Лазарь в тумбочку всегда запирает тетради свои, а тут, видно, забыл, на пледе оставил. Вот пока вас нет, стало мне любопытно. Нехорошо, конечно, в чужое заглядывать, а все же не усидел. Подошел, взял тетрадь, открыл: подчерк ясный, убористый, хоть и мелкий, – разборчиво. Стал читать… И в начале даже не понял, читаю-то что? Но только почувствовал что-то знакомое… С третьей страницы узнал, и как с ног меня сбило! Все до каждой подробности про меня, что обо мне ни один человек не ведает. И как в детстве упал я с яблони есть, даже бабушке тогда не сказал, а он знает… знает он, понимаешь? Понимаешь ты, что это значит… Откуда? Вся тетрадь про меня! И всего три листа в ней свободные, не исписаны…»
Рассказал и смотрит на меня с ужасом, ждет ответ.
– И к чему это ты, Алексей Иванович, испугался? Кто не падал в детстве с яблони, не дури! – говорю разумное в ответ ему вроде бы, утешаю, а и тоже как-то шепотом, потому что история действительно странная… Необычная…
– Падали… А откуда знает он, как зовут мою бабушку? Никому я здесь не рассказывал, ты вот знаешь?
– Нет, но может быть совпадением…
– Может быть, только там-то тетрадка толстая, а вот вся из таких совпадений…
– И что же может быть тогда это, ты думаешь?
– Не знаю я, – отвечает, – что это может быть, да только мне страшно. Вторую уж ночь не сплю. Перед ним я как голый…
Растерялся я.
– А что делать-то, Алексей Иванович? Ведь на это прав не предъявишь, даже если в печать такое отдаст, разгласит… Твоим именем там подписано?
Он рукой махнул.
– Сам не знаю, что делать, только мне все это очень не нравится… Так, как будто не жив, понимаешь, я, и не жил, а написан… Дописан почти. Три листа два дня назад незаполненных оставалось…
И всего его затрясло. Ясно, что подвинулся разумом от своей нелепой фантазии человек.
Кое-как утешил его, приободрил.
– Я тебе свидетель, Алексей Иванович, что ты жив, – говорю. – Живой человек, не написанный.
Он же снова рукой махнул, в своем убеждении…
– Да какой ты свидетель-то? – говорит. – Ты-то, может, тоже написан…
Стало почему-то от этих слов неприятно мне. По спине холодок. Это надо же, какую выдумал ерунду! Спорить с ним не стал, если уж человеку втемяшилась белиберда такая вот фантастичная, то так просто ее не вытряхнешь.
Вот от нервов этих, страхов беспочвенных, самовнушения сделался с ним сегодня под утро приступ сердечный, и освободилась у окна его койка. Дело в крематориях наших привычное, хотя и печальное, «всем до Господа Бога близко», как Антон Михайлович говорит. Мне б и в голову ничего не пришло, а только вдруг вижу, достал из тумбочки тетрадь новую Лазарь.
Господи, как же имя ее? Ведь автограф с посвящением ставят… Но спросить невежливо у нее, сколько лет встречает, провожает меня, родней меня самого, а я имени даже не знаю?
И вот так решил: напишу ей на книге моей… «Безымянной женщине моей жизни».
Ф.М. Булкин
Жили-были старик со старухой, на улице Героев Панфиловцев, во дворах, где магазин «38 копеек». Они жили в хорошем кирпичном гараже на фундаменте, у них там стоял раскладной диван, обогреватель старой модели «Юность», мебель: письменный стол и два стула, и старик (из экономии электричества) еще выложил кривенькую буржуйку, в которой старуха пекла голубей и картошку, грела чай и варила макароны и гречку. Иногда старик приносил из контейнера за магазином банку тушенки или еще что-нибудь хорошее, но потом администрация магазина стала вешать на контейнер замок, и пришлось обходиться так, без хорошего. Раньше, когда они еще жили в квартире, на пятом этаже, по той же улице (еще при Ванечке), они жили лучше, а теперь жили вот так, потому что эту квартиру старик, по своим пьяным делам (уже после Ванечки), подписал на чужих людей. И их за это выгнали из нее по закону судебные приставы. Старуха была работящая женщина, изобретательная. Она нарисовала на стене гаража голубой эмалью окно и белой – на окне раму, вбила как-то в кирпичи два гвоздя и повесила занавески (очень красиво получилось, она была по образованию художница), и еще повесила над диваном Ванечкины фото в рамочках. И она мыла пол в их гараже, вытряхивала коврик, протирала пыль с мебели и вообще наводила на жизнь уют. Они прожили так, с божьей помощью, три зимы и три лета, а потом старуха простудилась зимой у ворот Всехсвятского, легла на диван, закрылась до подбородка шубами и еще какими-то тряпками (у нее были две шубы и тряпки) и стала умирать. И вот приходит старик в тот день, в девятом часу с работы – он работал в подземном переходе на ту сторону Героев Панфиловцев, играл на баяне полонез Огинского и «На сопках Манчжурии»; получал хорошие деньги. Но был человек слабый и от этого горький пьяница, и почти весь его заработок уходил на эту гадость, а еще же подорожал со временем хлеб, и приходилось платить ежемесячный взнос в гаражное товарищество и за электричество. Он вернулся и видит: в гараже не убрано и на буржуйке ничего не варится. А старуха лежит плашмя под шубами и ничего не говорит, только смотрит. Он сообразил, что у старухи приступ (такое с ней и прежде случалось, но они утешались тем, что у нее, у старухи, вероятно, в желчном пузыре камни или еще какая-нибудь болезнь, и приступы проходили, хотя по приступам старуха громко стонала, вертелась и не могла уснуть).

Но тут она