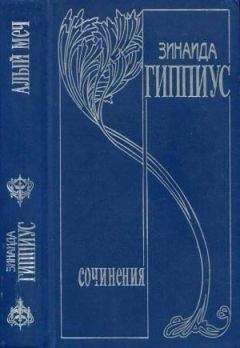Заря едва занималась, в лесу было серо, сыро и жутко. Колеса стучали мягко. Деревья поникли холодными ветвями, и большие, тихие капли росы падали на землю. Я плакал безмолвно и горько, боль, как жесткая рука, сжимала сердце. Я плакал потому, что слишком любил Полину.
…говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе и жизни.
Иоанн. VI, 53.
I
На обеденном столе – крошки, корки; несвежая скатерть кое-где скомкана; перед Андреем Ивановичем – тарелочка с недоеденным пирожком из кондитерской, сухим, желто-коричневым. Как ни светел был апрельский вечер, – над столом уже горела висячая жаркая лампа под плоским зонтообразным абажуром. Окна столовой выходили на двор, откуда ползли сумерки, а не свет. Только наверху где-то зеленела узкая полоска неба с уже неумирающей зарей.
Андрей Иванович Молостов, человек лет тридцати восьми, с лицом ужасно обыкновенным, скорее приятным, обрамленным рыжеватой бородкой, – читал, по привычке, какие-то рукописи; рядом лежал новый том Спенсера по-английски. Рукописи вовсе не было нужды читать; они явно – Андрей Иванович видел по первым строкам – к печати не годились; но надо же что-нибудь делать? С понедельника Страстной Молостов чувствовал себя выбитым из колеи: в редакции затишье. Секретарь отправился в отпуск, благо вышла последняя книжка. Сотрудников не видать. Даже сторож Сергей словно занят чем-то другим, более важным. Молостов, не официальный, но фактический редактор – любит свой журнал, свое детище, и ему это обидно. Ему всегда, издавна, кажется мучительным предпраздничное и праздничное время, когда все отходят от дела, как будто для какого-то другого, важнейшего, – а в сущности для чего?
Бледная, худенькая Анна Львовна, жена Молостова, не читает, но ей тоже скучно; и она привыкла работать; помогает мужу; кроме того, у нее небольшая школа, которой она очень занята; но теперь и школа распущена на две недели.
Анна Львовна сидит за неубранным столом, опершись головой на руку. Молостов несколько раз взглянул на нее через очки; ее бледное, тоскливое и покорное лицо ему неприятно.
Андрей Иванович знает и любит это лицо пятнадцать лет. Жена – его верный друг и помощник; вместе они перенесли и нужду, и другие, более серьезные, невзгоды, вместе выбились, не изменив своим убеждениям; теперь у них общий, честный и плодотворный труд. Жизнь полупрожита – но прожита хорошо, никто не может упрекнуть Молостовых, ни они сами себя. Эта тоска весенняя, каждый год повторяющаяся, – это от перерыва в работе, от вынужденной праздности.
«Ну, чего она? – подумал Молостов. – О чем она думает? Пройдут когда-нибудь эти дни…»
Он хотел спросить, о чем она думает, но не спросил и перевернул страницу рукописи. Часы с гирями аккуратно выщелкивали время. В соседнюю комнату была отворена дверь, оттуда раздавались голоса, детский и старческий.
– Нянечка, – говорил ребенок, – а твое сегодня рождение?
– Какое рождение, батюшка?
– Да твое! Вон тебя поздравляли. И платье на тебе лиловенькое. Рожденье?
Андрей Иванович нетерпеливо кашлянул и взглянул на дверь. Анна Львовна встрепенулась.
– Тебе мешают? Закрыть дверь?
– Нет, оставь, сделай милость.
У Молостовых не было детей. Шестилетнего Волю они взяли к себе, когда ему едва исполнился год, и усыновили. Он приходился племянником Андрею Ивановичу и был сирота.
Разговор за дверью продолжался.
– Значит, не рожденье? А как же поздравляли?
– А поздравляли с принятием Святых Тайн. Приобщалась я нынче за ранней, деточка.
– Приобщалась? Это в церкви? Это как рождение? Это что, Тайны, нянюрочка?
– Охо-хо! Дожил дитя, уж на другой год на исповедь идти, Святых Тайн не приобщавшись! – Нянька вздохнула и, помолчав, продолжала:
– Разве не помнишь? Летом в церкви были. Там деток приобщали. Выйдет священник из Царских врат, чашу вынесет золотую, поют это, ну и приобщит.
– Да… Ну что ж… – задумчиво произнес Воля. – Какие же они, Тайны, няня?
– Плоть и кровь Христовы. Творите, сказано, в Мое воспоминание. Кто творит, тому и радость. Без этого нельзя. «Христос бо веселие вечное».
– И чтобы все – «творить»?
– Все, батюшка, все. Как же не все?
Детский голос умолк, точно ребенок что-то соображал. Нянька вздохнула.
– Няня, и папочка с мамочкой, и я буду, да?
– Что будешь?
– Да вот… Тайны творить. И веселенький буду, хорошо?
– Будешь, голубчик, будешь.
– Вон какое у тебя сегодня платье лиловенькое. А у мамочки голубое есть. А она не надевает. Мамочке скучно. Отчего ей скучно? Что папочка сердитый, оттого?
Анна Львовна в столовой подняла голову и крикнула:
– Няня, ты не обедала? Пойди в кухню.
Ответил Воля, не входя в комнату:
– Мамочка, она сегодня, говорит, не буду обедать. Говорит, ко всенощной пойду.
Нянька завозилась.
– И то пойду, небось уж пора. Нынче Евангелия. Со свечами будут стоять. Тебе, Воленька, святого огоньку принесу.
– Няня, я сам хочу! Я с тобой пойду! Мамочка пустит. Я святого огонька хочу. Хорошо? Нянечка?
– Ой, что ты! Устанешь. Служба долгая. Двенадцать Евангелий будут читать.
– Двенадцать? Вон сколько их! Ни за что не устану. А Тайны когда?
– За обедней Тайны пречистые. Нонче четверг. Нонче хорошо приобщаться. Христос нонче на вечере с учениками возлежал, и хлеб преломил, и чашу подал. А на завтра страсти начинаются.
– Страсти? Ох, нянечка! Возьми ты меня, пожалуйста! Не устану!
Глухо, сквозь стекла, донесся дальний звон, тонкий, но настойчивый.
В столовую, где сидели Молостовы, вошла няня, держа Волю за руку. Старушка была маленькая, худенькая, а мальчик большой, и они казались почти одного роста. У Воли были светлые-светлые волосы; у няньки из-под чепчика виднелись пряди совсем белые. И цвет глаз, водянисто-голубой, у них был почти один.
– Старый да малый в церкву собрались, – добродушно сказала старуха, – просится Воленька.
– Устанешь, – проговорила Анна Львовна, но как-то слабо, не то недовольно, не то нерешительно. – И зачем?
Андрей Иванович крикнул с неожиданным раздражением:
– Пускай идут! Устанет – нянька его назад приведет. Мальчик робко поцеловал «папочку» и вышел с няней.
Та стала его одевать, он опять ее что-то спрашивал, болтал, пока они не ушли.
Лампа, ширя свой зонт, надутая и лоснящаяся от керосина, так же жарко горела. Ни крошек со стола, ни скатерти никто не убирал. В запертой комнате стоял, не двигаясь, запах масляного мяса, не до конца съеденного.
Андрей Иванович встал и подошел к голубевшемуся окну.
– Душно здесь, Аня.
– Не открыть ли форточку?
– Я пойду пройдусь. Голова болит.
Анна Львовна взглянула на него с покорной тревогой.
– Что с тобою?
– Ах, да ничего! А с тобой что?
– Со мною? – она растерянно улыбнулась. – Вот уж ничего-то! Всегда это время… такое скучное. Весна, праздники не у дел как-то…
Она сказала именно то, что он сам думал словами о своей тоске, а между тем раздражение и тоска безмерно усилились; он взглянул на своего верного друга, честного спутника честной жизни с отчуждающей ненавистью. Не то, не то! Но если б он и знал слова для «того» – он ей не сказал бы их, – как и она бы, вероятно, не сказала. От стыда? Или от чего? Просто от чуждости. Все, чем они были связаны, что было у них общим, – убеждения, мысли о благе человечества, совместная работа на пользу ближнего, даже его любовь к ней, как к «удивительной личности» – все это показалось ему таким не связующим; просто внешними, перетлевающими нитками связаны, и полжизни прошло, а вот – она отдельно, и он отдельно. Пока в суматохе, в работе, пока громкие слова звенят – не замечаешь; а вот тишина, и странная полуфизическая тоска поднимается со дна сердца, – и тотчас каждый отдельно. Чем душнее и необъяснимее тоска – тем отдельнее.
– Ты всегда весной, в последние годы, какой-то… – тихо сказала Анна Львовна и прибавила, – устали мы с тобой, что ли…
Он ничего не ответил. Может быть, и она чувствовала ту же «отдельность». Но говорить о ней было нельзя.
Андрей Иванович оторвался от окна, молча миновал комнату, надел шапку, пальто и вышел из дому.
II
Тучки набежали, закрыли зеленую твердь неровными пятнами, пролился, шумя, полутеплый дождь и затих. Молостов шел по блестящему тротуару, поминутно наталкиваясь на озабоченных прохожих, хотя улица была не очень бойкая. Рядом, по грязи и лужам шлепали мерно копыта извозчичьих лошадей.
Тоска, и своя «отдельность», и при этом ощущение без-смысленности всего, что в себе казалось дорогим, – не улеглись на улице.