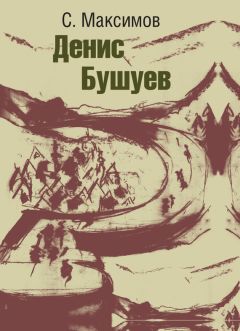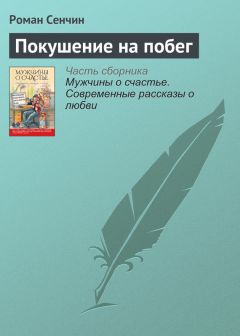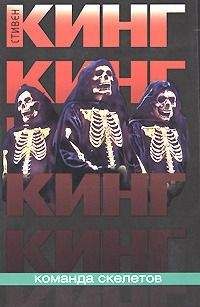– О-о-о… Боже… – прошептала Манефа запекшимися сухими губами. – Сил моих больше нет.
И почувствовала, как по щеке поползла горячая, как огонь, слеза…
Гришу Банного долго и строго допрашивал следователь Макаров. Гриша показал все так, как было, утаив, однако, свой последний разговор с Алимом, и, поборов робость, высказал даже свое предположение о причине самоубийства Ахтырова.
– Колхозные неурядицы-с…
Собственно, мысль эта была не его, а самого следователя. Гриша же ее только уловил из разговора следователя с Шестопаловым на одном из допросов. В самом деле, все выглядело страшно просто: развалив колхоз, человек сам признался в своей антисоветской деятельности, человеку грозил арест, а за арестом – неминуемый расстрел. И человек испугался наказания. И хотя в посмертной записке Алима прямых указаний на этот счет не было, все же она могла свидетельствовать только об этом, а ни о чем другом.
Таково было заключение следователя Макарова, которому было поручено это новое дело, таково было мнение и его начальника – Шестопалова. И эту их мысль в один день разнес Гриша Банный по Отважному и по Татарской слободе.
Покончив с делом Алима Ахтырова, занявшим в силу своей ясности всего два дня, следователь вернулся к делу Мустафы. Но так как никаких новых данных у него не было, то он опять попал в круг все одних и тех же неразрешимых вопросов и, допрашивая то Гришу Банного, то деда Северьяна, чувствовал, что он так же далек от разрешения тайны, как и шесть лет тому назад. Оставались еще слабые надежды на показания Манефы, которую он не имел права допрашивать в больнице. И он стал дожидаться ее выздоровления.
На средней Волге, на второй день праздника Петра и Павла, в селах и деревнях «гуляют» вдовы. Так было заведено исстари, и кое-где, даже не в очень глухих местах, сохранился этот обычай и в наши дни.
В Отважном в этот год вдовы «гуляли» в доме Марьи Красильниковой. С утра они распевали хором пьяненькими заливистыми голосами, с необыкновенной легкостью переходя от печальных, полных безысходной тоски песен к веселым и разухабистым, часто и не совсем приличным песням. И в этот «день вдов», к вечеру, вышла из больницы Манефа Ахтырова.
Пароход в Отважное уже ушел. Манефа переехала на пароме на другой берег Волги и пошла в село пешком, держа в руках маленький узелок с бельем. Она шла и думала только о том, на что решилась накануне.
Когда она пришла в Отважное, стало уже совсем темно. Скрипели в траве кузнечики и сонно ворочались на березах грачи.
В домике деда Северьяна горел свет. Манефа взошла на крыльцо и толкнула дверь в сени…
Дед Северьян сидел на маленькой скамеечке посреди тесной кухни и при свете керосиновой лампы подтачивал крючки на шашковом перемете. Он исподлобья, просто и без удивления, взглянул на гостью, поправил пробку на лесе и негромко предложил:
– Проходи… садись… Чего у притолки стала?
Манефа подошла к табуретке и села, положив на колени узелок. Тусклым и равнодушным взглядом обвела кухню – она первый раз в жизни была в этом доме. Старик продолжал молча заниматься своим делом. С улицы донеслась песня и визг гармошки.
– Кто это поет? – тихо спросила Манефа.
– Вдовы… ихний день сегодня…
Он положил снасти на пол и провел морщинистой ладонью по лысой голове, пытливо всматриваясь в Манефу.
– Вот и ты теперь вдова…
Манефа ничего не ответила.
– Похудела ты, осунулась… и жизни в глазах твоих больше нет…
– Нет?
– Нету…
Она опустила голову, и длинные черные ресницы чуть дрогнули.
– Когда из больницы вышла?
– Сегодня…
– С пароходишком приехала?
– Нет, пешком…
– У матери была?
– Нет еще.
– А пойдешь?
– Пойду… почему же не пойти?
Она подняла голову и поправила выбившиеся из-под косынки волосы.
– Тесно у меня? – вдруг спросил дед Северьян, захватывая в кулак широкую бороду и опять пытливо глядя на Манефу.
– Тесновато…
– Н-да… что верно, то верно: тесновато. Да мне большего не надо. Вот, помирать срок подходит. Года. В могиле, должно, еще теснее будет… А ты почто, Маня, ко мне пришла?
Манефа поставила на пол узелок и робко сказала:
– Просьба у меня до тебя будет… Последняя просьба… Я, может, старик, завтра уеду. Далеко уеду, на север…
– Зачем же на север?
– Так уж… надо…
– Ну так давай твою просьбу…
Манефа на секунду задумалась. Знает старик или не знает про ее-то и про Дениса? «Ах, мне теперь все равно», – подумала она, но взглянув на старика, она как-то сразу поняла, что он все знает и что бояться ей нечего.
– Вот хочу тебя просить: коли внука-то своего, Дениса-то, увидишь, так ты передай ему, старик, от меня привет… и еще…
– Что еще?
– И еще… коли он что ужасное услышит обо мне, так пусть… так я прошу у него прощения за то, что всего-то не сказывала ему… не могла ему всего-то рассказать, от любви не могла рассказать…
Дед Северьян насторожился. Еще в самом начале беседы, в тот момент, как он увидел Манефу, он хотел передать ей письмо от Дениса, но что-то удержало его. Теперь же он убедился в том, что перед ним сидит человек, у которого есть какая-то тяжелая тайна на душе и который на что-то решился, может быть, – даже на что-то и нехорошее, и подумал о том, что письмо пока передавать не надо.
Опять взвизгнула гармоника, и долетели веселые слова разухабистой песни:
…Вот ложится на перину вдова-а.
За окошком ночь темна-растемна-а.
Ой-люли, ой-люли-ой-люли,
За окошком ночь темна-растемна-а…
– Ладно… – вздохнул старик. – Может, и передам… – и вдруг добавил: – А ведь того… Алима-то ведь не нашли еще… тела-то его.
– Не нашли? – как-то машинально и равнодушно переспросила Манефа.
– Нет, не нашли. Плавает… Только все одно, время придет – вынесет. Волга, она всегда выносит утопленников.
– Всегда?
– А ты как думала… Эх, Маня, я их, утопленников-то, на своем веку видывал да и перевидывал – всех вынесло… Скажи-ка, Маня, а муж-то… того… знал про тебя… знал он, что ты с Дениской-то?..
Манефа молчала.
– Вишь ты, почему я спрашиваю… – продолжал дед Северьян. – Люди говорят, что Алим в городе что-то натворил, что тюрьма его ждала… за политику, значит, против власти, значит, пошел… Да только, может, не одно это толкнуло человека… может, Маня, знал он про вас, про тебя да про внука-то, про Дениску-то нашего… А? Знал он, что ль?
«Ага, вон ты куда! – подумала Манефа, – беспокоишься, чиста ли у внука совесть?» И решительно ответила:
– Нет, не знал он про то…
– Не знал? – оживленно переспросил дед Северьян, дернув изуродованной губой.
– Нет.
Старик встал и повернул фитиль в лампе, прибавив света.
– А меня, знаешь, все по судам таскают… – сказал он, присаживаясь к столу и поглаживая колено.
– Зачем?
– А все по тому же делу… по старому. Помнишь? – и он, прищурясь, посмотрел на нее.
– Помню. Опять, значит, за старое взялись?
– Значит – взялись.
– Ну а ты что?
– Я-то?.. Ничего. Что ж я? Мое дело – сторона.
– Напрасно они это…
– Как это напрасно? – нахмурился дед Северьян.
– Зря людей беспокоят…
Она как-то странно улыбнулась, положила руки на стол и полузакрыла глаза.
– Старик… – глухо позвала она.
Дед Северьян молчал.
– Старик, это я убила Мустафу…
Дед Северьян не шелохнулся.
– Вот о чем Денис-то не знал… Вот за что он презирать меня должен… – тихо и как-то торжественно добавила она. – Старик, ты так и передай Денису: что, мол, Манефа просила презирать ее… Не забудь, смотри. А я, старик, не могу больше… Я заявлю на себя.
Она вскочила, подошла к русской печи, ухватилась руками за край горнушки и припала лицом к теплым кирпичам.
– Что ж, и это дело хорошее… – тихо и спокойно сказал дед Северьян, – сходи, повинись… самое твое лучшее место в тюрьме али на каторге…
– В тюрьме, говоришь?
Дед Северьян подумал и строго сказал:
– Много ты зла сделала, много… А самое большое зло – жись отняла у человека. А это – нельзя. Бог нам такого права не давал…
– Да нету твоего Бога-то! – хрипло вскрикнула Манефа.
– Есть.
– Врешь, старик! Кабы Бог был, он бы помогал людям-то!
– Он помогает, – твердо и убежденно проговорил дед Северьян, – помогает, коли люди сами о нем помнят.
– Никому Он не помогает! Он только наказывает!
– Он не наказывает… люди сами себя наказывают.
– Врешь! Опять врешь, старик! Ну я вот… это правильно… я сама себя наказала, я сама плохая, а вот внука-то твоего, Дениса-то, за что наказывает? Ведь он человек хороший, счастья-то ему нет! Почему ж Бог ему-то не поможет?
– Потому что он сам от Бога далек… – ответил дед Северьян так же спокойно и уверенно.
Манефа посмотрела на него не то с удивлением, не то с легким испугом.
– Как это все… просто у тебя, – пробормотала она в замешательстве. – Ну а сам-то ты, сам-то ты счастлив, что ль?