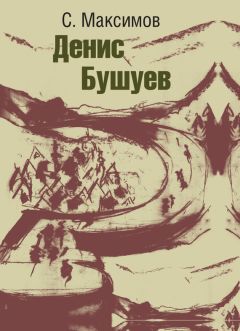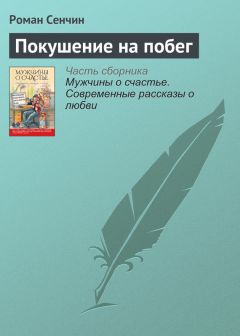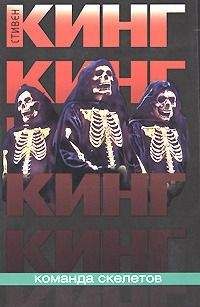– Помню.
– Вот это тебе Богом и зачлось… А грех – все мы не без греха. И у меня, может, есть грех на душе не мене твоего… Только грех-то этот не сумел я искупить, понапрасну жись прожил, впустую жись прожил. И настал, видно, день искупления греха моего тяжкого…
И, размашисто перекрестившись длинной рукой, просто и спокойно добавил:
– Господи, помоги мне, Господи…
Опять перекрестился и сказал Манефе:
– Подь сюда, Маня.
Она подошла с тем чуть удивленным равнодушием в лице и со смутной тревогой и страхом в душе, с которым подходят неверующие люди к иконе.
– Что ты хочешь? – спросила она, но, взглянув ему в глаза, она мгновенно поняла все. И ужас охватил ее.
– Нет! – вскрикнула она, отшатнувшись. – Нет! Я не могу! Я не хочу! Врешь, старик! Не спасенье ты мне предлагаешь, а новый грех!.. Куда ты толкаешь меня?
– Маня…
– Моей совестью свою спасти хочешь!..
– Вспомни о младенце… – тихо напомнил дед Северьян.
Манефа сразу притихла, сгорбилась, прижала ко рту руку и закусила зубами кончики пальцев. И почувствовала себя в каком-то чудовищном заколдованном кругу, из которого не было выхода. Последними словами, словно ключом, старик замкнул этот страшный круг.
Дед Северьян, хрустнув костями, тяжело опустился на колени перед иконой.
– Иди сюда…
Испуганная, дрожащая, она покорно подошла к нему.
– Вставай и ты… – приказал он.
Манефа опустилась на колени все с тем же испуганно-покорным выражением.
– Молиться умеешь?
– Нет…
– А креститься?
– Не помню… нет.
– Повторяй за мной…
И дед Северьян громко и спокойно стал читать молитву, а Манефа сбивчиво и неуверенно – повторять за ним.
Лампа на столе зашипела и потухла – выгорел керосин. В избе стало темно. Только тусклый синий свет лампадки озарял слегка потолок в углу, икону и головы молящихся перед нею людей.
Утро выдалось парно́е, туманное. Собирался погожий день.
Проводив Манефу, дед Северьян умылся, надел чистое белье и прибрал избу. Потом достал холстяной мешок, положил в него старое потрепанное Евангелие, краюху хлеба, жестяную кружку, ложку и маленький кулечек с солью. Оглянулся по сторонам – не забыл ли чего – и вспомнил про березовую шкатулку.
– Эк, ведь забыл… Надо б ей отдать.
Открыв шкатулку, взял деньги, завернул их в тряпицу, перевязал бечевкой и сунул в карман кителя. Потом надел кожаные сапоги, взял под мышку зипун и мешок и повернулся, чтоб перекреститься, но вспомнил, что иконы нет – он ее отдал Манефе – и остановился в нерешительности. Перекрестился на пустой угол и вышел на крыльцо, низко согнувшись, чтоб не стукнуться головой о притолоку.
Из-за края леса подымалось солнце, красное и сверкающее. Щебетали в кустах птицы, горела роса на мокрой траве. Голосили петухи, и щелкал кнут пастуха за домом Анания Северьяныча.
Дед Северьян неторопливо надел картуз, запер дверь и пошел в гору.
Анания Северьяныча дома не было. У печи возилась с ухватами Ульяновна, за столом сидели Марфуша и Катенька и большими ложками ели пшенную кашу, склоняясь над чугуном.
– Анания нет? – спросил дед Северьян.
– Нету. За веревками пошел к Митричу, – ответила Ульяновна, с удивлением глядя на зипун и мешок старика.
– Я, Ульяновна, ухожу… может, на неделю, а может – доле.
– Куда это? – испугалась Ульяновна.
– Надо… Вот ключ от избы, – сказал старик, кладя на стол ключ. – Каша-то вкусная? – спросил он у правнучек.
– Угу… – мотнула головой Марфуша.
– Хошь и ты? – предложила Ульяновна.
– Нет, спасибо… – ответил старик и, потрепав девочек по головкам, направился к двери…
– Ну, прощевайте… Дай вам Бог!
– Да что ты, точно навек уходишь! – забеспокоилась опять Ульяновна.
– Дай вам Бог… – повторил старик, поклонился и вышел.
На улице он постоял в раздумье и пошел под гору, к Волге. Возле колосовской бани он увидел Гришу, коловшего дрова.
– Гриша, подь-ка сюда… Вот что, милый, – сказал дед Северьян, когда Гриша нерешительно приблизился, – вот этот сверточек передай Манефе. – Смотри, не забудь!
– Нет-с, что вы! – ответил Гриша, пряча в карман сверток и с любопытством разглядывая старика.
– Погода будет нынче хорошая, – вдруг сообщил он, поспешно опуская глаза.
– Надо быть, хорошая… – согласился дед Северьян.
– А вы – и с мешком?
– И с мешком.
– И с зипуном?
– И с зипуном.
– Жарко будет…
Помолчали.
– Гриша…
– Что-с?
– Тебя опять вчера в город, что ли, вызывали, на допрос-то?
– Вызывали…
– А ты что?
– Ничего-с… как всегда – ничего-с…
Дед Северьян поправил картуз и вздохнул:
– Ну, будь здоров, Гриша. Прощай.
– Прощайте, Северьян Михайлович…
Спускаясь по тропинке, дед Северьян оглянулся. Гриша все еще стоял на прежнем месте и смотрел ему вслед. Старик нахмурился. Гриша вобрал голову в плечи, замигал белыми ресницами и исчез за стеной бани.
Туман быстро редел. Плескалась в реке рыба, будоража спокойную и розоватую воду. Дед Северьян присел на борт своего старого друга «Путешественника», поправил по-хозяйски высунувшуюся из гнезда деревянную уключину и, склонив голову, задумался. И увидел он точно такое же светлое утро лет шестьдесят с лишним назад, такую же спокойную и розовую Волгу и подернутые утренним туманом синеватые Жигулевские горы. Он, молодой и красивый, полный кипучих сил, в голубой праздничной рубахе, слегка под хмельком, с радостным сознанием своей красоты и силы, сидит с веслами в руках посреди большой лодки, весело улыбается и спрашивает: «А что, барыня, не свернуть ли к острову?» От лодки расходятся легкие волны, кружат белоснежные чайки и тихо шумит волнуемый течением прибрежный камыш… И тогда случился грех.
Да было ли все это? Может, это был только сон? Нет, все это было. Шел день за днем, год за годом, десяток лет за десятком, а Жигулевские горы, светлое утро и шум камыша не стирались в его памяти…
Дед Северьян поднялся, бросил на плечо зипун и долго стоял, смотря на Волгу старческими влажными глазами. Потом стал на колени, зачерпнул воды из реки, попил и тихо побрел в гору. Через час он пришел в Спасское, присел на траву возле могилы жены и просидел на кладбище до полудня. В полдень он поднялся с примятой травы, поправил покосившийся крест на могиле и, постаревший, сутуло сгибая спину, направился в Отважное.
Было невыносимо знойно. На безоблачном зеленоватом небе плавилось ослепительное солнце. Гудели пчелы. В горячей дорожной пыли купались воробьи. У крыльца отважинского сельсовета сидели в тени просители, курили махорку, жевали хлеб, лениво переговариваясь. Матвей Потапов, брат Ильи Ильича, маленький и сухонький мужичонка, завидев деда Северьяна, подтолкнул локтем соседа – Африкана Митрича Полюхова.
– Глянь, Митрич, Бушуев прет куда-то с зипуном.
– Здорово, Северьян Михалыч! – закричал Митрич. – Кудай-то ты с зипуном в эдакую жару направляешься? в Палестину, что ль? по святым местам? грехи замаливать?
Дед Северьян подошел, поздоровался.
– Грехи наши, Африкан Митрич, не замолишь… – сурово сказал он. – В грехах мы, как в сетях, ходим.
Митрич сплюнул через зубы, почесал прокуренным пальцем в затылке.
– А что Ананий делает? Давненько я его не видел. Жив?
– Жив. Чего ему…
Митрич повернулся к Матвею Потапову, покачал головой.
– Продувной, брат, этот Ананий. Уж и до чего продувной – пробы ставить негде. А только я его в сани заместо мерина чуть не запрёг…
– Как так? – рассмеялся Матвей.
– А вот так. Ехали мы с ним зимой из города, по морозцу, тверезые оба. Лошаденка, хучь плачь, – не везет. Уж я и так и сяк, и кнутом, и кнутовищем – не везет, да и только. Дай, говорит Ананий, я хлестану! Изогнулся, сукин сын, да как вытянет кобылку по морде! Та – в сугроб, супонь порвала, обернула розвальни. Встал я и говорю: «А хошь, я тебя запрягу теперича с кобылкой рядышком? Хошь, говорю, сучий сын, за мерина служить?» Эх, как он перепугается!
Матвей зашелся мелким, дребезжащим смешком. Дед Северьян взошел на крыльцо, хмуро спросил:
– Отобедали, что ль, сельсоветчики-то?
– Надысь отобедали… – отозвался Митрич, свертывая цигарку. – А ты что, по делу?
Дед Северьян не ответил. Толкнул скрипучую дверь и вошел в сельсовет. За низеньким барьерчиком сидел счетовод – рябой паренек Василий Чижов. Что-то писал. У барьера толпились мужики, бабы.
– Как же так? Значица, я без пенсии остаюсь? – спрашивала какая-то старуха у счетовода, суетливо затягивая узел черного платка под подбородком и часто и слезливо моргая глазами.
– Ничего не знаю, мамаша, – отвечал счетовод. – Мое дело известить, а разбираться поезжай в город.
– Нача-а-альники!.. – злобно вскрикнула старуха и безобразно выругалась.
В этот момент из соседней комнаты вышел с бумагами в руках сам председатель сельсовета Игнат Онучкин. Он строго посмотрел на старуху и осведомился: