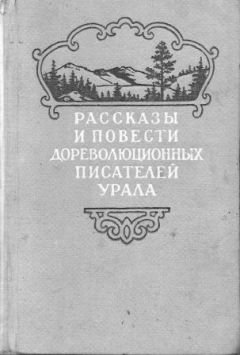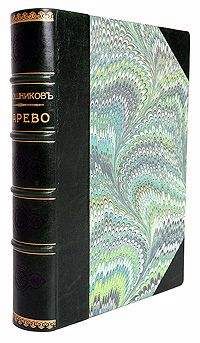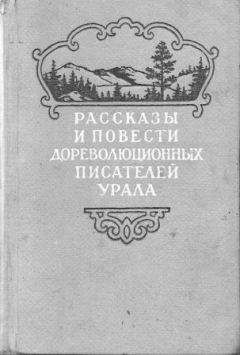Начинается спозаранок и на весь день обычная история.
— С прибылью торговать, — заискивающе ласково говорит баба, как-то виновато отводя глаза. И мнется несколько секунд.
— Бог спасет. Что скажешь? — скучающе отворачивается от нее хозяин.
— Архип Фролыч… полпудика бы, сделай милость… — она вывязывает из платка трубку холста, пестрый сарафан, три мота льняной пряжи.
— Ох, господи! Душу свою потопил я с вами, право… — тяжело вздыхает, как бы с брезгливостью разбирая принесенное, а в глазах уже сверкнул соответствующий елейному тону жадный огонек, крючатся сухие, цепкие пальцы, будто ястребиная лапа.
— Гм… десять фунтов еще туда-сюда, можно… — и отодвигает вдруг заклад: — Не надо бы вовсе, много у меня этого хламу! Ну, да уж сказал ежели, не отопрусь… жалеючи…
— Десять фунтов! Архип Фролыч, побойся ты бога-то. Ведь выкуплю, неуж попущусь?
— Ты мне этих слов не говори! Я господа бога завсегда памятую, оттого только, может, вам и благодетельствую, а вы как за благостыню мою? Лонись как заверяла: десять ден стану жать, говорила, только дай, а о самую страднюю пору рожать вздумала… Все вы таковы, обманщицы, лукавки, только бы стеребить, обмануть доброго человека…
— Батюшка, Архип Фролыч! Да ведь ежели нет силы-мощи?
— Ну, это уж меня не касательно. Пятнадцать фунтов, пожалуй, дам уж, и то только бога для… (Копейка с гривенника в месяц… Некогда мне с тобой! — досадливо обрывал, оборачиваясь на звонок входной двери.
— Ладно… — подавленно вздыхает баба, озираясь на входящих, и подставляет мешок поскорее, будто не хочет "на людях" просить да вымаливать.
— Ох, согрешил я с вами, — по щепотке подбрасывает Архип Фролыч и зорко следит за стрелкой: не дать бы "похода"…
— Здорово… Что скажешь? — отвечает через плечо на приветствия новых покупателей. И тычет последнюю щепотку так, что весы сразу показывают "поход".
— Отпускайте, обождем, Архип Фролыч, — отвечают как-то по-виноватому, заискивающе. И прячут под полою принесенные овчины, самовары, узлы; прячут стыдливо от добрых людей свою нужду, как и те тоже скрывают свою, хотя те и другие все понимают друг о друге доподлинно.
— До вашей милости, Архип Фролыч… Вызволь! Вот-те истинный Христос! В срок рассчитаюсь… Тулуп-то, гляди, не поныхнулся, что есть новенький…
— Да ты что думаешь? Сам я кую деньги-то, что ли? Не надо мне твоего тулупа, полна клеть их у меня, и денег я тебе не дам… Даже и припаса не отпущу, вот что!
— Архип Фролыч! Два-то целковых?
— И пятака не дам. Ты вон бога не побоялся, оболгал меня, будто лишнее я с тебя взял… Все знаю. А как так лишнее? Сказано было гривенник с рубля в месяц, а? Вот то-то и оною… А выкупил ты, заместо десятого, тринадцатого числа, да… Вот и рассуди, коли ум в голове, что на другой месяц, стало быть, три дня перешло, а мне все едино; день один, месяц ли полный… У меня все по совести, по уговору, не то, чтобы на обман, по-вашему! По-божески взял я с тебя тридцать копеек-то, да… Только для бога, для души и возжаюсь с вами, а заместо благодарности вы только гадите, на это вас и стать есть. Бога вы забыли!
Вбегает справно одетая молодуха, смело протискивается сразу вперед, с шиком ударяет о прилавок полтинником.
— Два фунта баранок, какрамели тоже на гривенник! Да поскорее, Архип Фролыч… Некогда, гости там ждут!
— Сей минут, Пелагея Потаповна, — кидается, забывая о закладчиках, и улыбается медоточиво.
Мужики и бабы почтительно отступают, глядят на молодуху и ее полтину с несказанным уважением: есть же, дескать, такие богатеи, что обладают экими капиталами и гостей потчевать могут…
— Гости, это хорошо… Проезжие, говорите? Паче того, — юлой вьется Архип Фролыч, из всей силы кидая на весы баранки и поспешно снимая.
— Это по-божески, да… Сказано потому в святом писании, что странного прими… — тянет вовсе уже нараспев, подбирая сдачу.
— Так как же, Архип Фролыч, скажешь? — выступает обдерганный мужичонка, комкая поярковую шапчонку.
— Да ты все еще тут? Ох, господи, царь небесный! Сказал уж, хошь, бери пятишку… И то лишь из жалости к нужде твоей, для детенышей твоих, а то бы и даром не надо, потому много у меня скотины и без того, с руками, с ногами съели… Разорюсь я из-за своей добродетели к вам, право!
— Архип Фролыч! Да ведь нетель-то какая, на племя бы только! Ну, хошь, вместо десяти целковых, по осени за пятнадцать обратно возьму? Вот тебе крест, не обману…
— Это мне несподручно, чтобы перепродавать. Ежели с концом только, вот последнее слово две трешны…
— Архип Фролыч, батюшка! — впопыхах возвращается богатейка-молодуха:- Ведь вместо пятака-то ты мне старинный двушник дал, гляди-ка… Заест меня мужик!
Уж нет медоточивых улыбок, вкрадчивых, ласковых речей: глядит спокойно, обиженно-строго и равнодушно.
— Помилуйте-с! Как это можно? Мы не мошенники какие… Верно, дома перемешали… У нас тоже крест на шее!
— Да окромя того полтинника, и нет ничего! Вы ссчитайте-ка.
— Нечего считать. Проверять сдачу надо у выручки, а то вот экое и возводите на человека… Бога в вас нет! Идите себе со Христом… Покорыстуюсь я вашими тремя копейками!
Молодуха уходит ни с чем, перебирая на ладони медяки.
— Батюшка, Архип Фролыч, да ты погляди! Это еще не стоит семи гривен, а? Ведь яичко к яичку, свеженькие!
— Мне их не есть, хоть золотые будь. Вот сказал, сорок копеек, хошь, — бери, не хошь, — иди, милая, с богом…
— Архип Фролыч! Да ведь в городу-то рупь семь гривен…
— Ох, господи! Душу погубил я из-за суеты вашей…. Ну, вези в город, продавай, может, два целковых дадут! И дай бог на сиротство твое… Царица небесная! Ведь только для души, вашего нищенства ради, жалеючи и возжаюсь вот… Ну, возьми полтину, Христос с тобой уж, все равно, сирота ты ведь! — При перекладывании яиц он поучает, что корыстолюбие — великий грех и что курочек кормить надо лучше, тогда они и яички станут нести крупнее.
— Что уж, какой наш корм, известно… — вздыхает старуха.
— А вот ты и слукавила! Думала, считать не стану? Пятка недостает до полсотни-то… Может, невольно, а согрешила, да…
— Да, Архип Фролыч! Три раза считала, нешто бесстыжая я какая? Еще одно яичко лишнее накинула пра всякий случай…
Глядит строго, но уветливо да скорбно столь на старуху. — Ты что же, думаешь, — обсчитал я тебя, а? Э-эх, люди! Им добро делаешь, а они… Не надо мне твоих яиц в таком разе!
— Да не серчай ты, Архип Фролыч, может, неравно и просчиталась… Что уж велика наша грамота, вам виднее…
— Ну, уж Христос тебя простит… и скину я с полтинника всего две копейки, бедность твою уважаючи… Богу на свечку, не себе, нет! Ты не жалей для бога-то, он тебе невидимо пошлет на сиротство-то твое.
С раннего утра до ночи этак. Что называется, дверь на пяте не стоит.
— Ох, господи! Согрешенье одно… А как отвергнешь? Куда они без меня? Для души уж только, для души… — Архип Фролыч долго крестится на церковь, заперев лавочку и пощупав еще раз замки.
Спустив цепную собаку, ощупает еще все засовы на дверях амбаров и клетей, обойдет весь двор и накажет работнику:
— Ты не больно-то спи… поглядывай… На людей не больно ведь полагаться причитается, им добро творишь, а они ворогом глядят на тебя… Прости их, господи!
За самоваром долго считает выручку, щелкает на счетах, пишет намусленным карандашом в грязных книгах, а потом, надев очки на нос, читает на сон грядущий псалтырь, сокрушенно, со слезой в голосе:
— Господи! Перед тобою все желания мои и воздыхания мои, от тебя не утаюсь…
А лик спаса смотрит с иконы по-новому, ночному, будто сурово. И божественные персты, кажется, не благословляют, а грозят…
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту журнала "Уральское хозяйство", 1912, № 5.
Стр. 273 для мамону все — мамон (просторечие) — утроба, желудок; грубые чувственные наслаждения.
Стр. 275 Лонись (диалектное) — в прошлом году.
БЕЛОРЕЦКИЙ (Ларионов) Григорий Прокофьевич (19(31).01.1879, Белорецкий з-д, Уфим. губ. — 06 (19).1913 г. Скопин, Рязан. губ.), писатель, фольклорист. Род. в семье приказчика. Окончил с золотой медалью Уфим. гимназию (1896) и Военно-мед. акад. в Петерб. (1901). Служил военным врачом. Первая значительная публ. — статья "Заводская частушка" (газ. "Ур. жизнь", 1901). Всего Б. записал более 500 заводских и бытовых частушек. В рассказах и очерках из нар. быта У. ("Страдалец", "Юбилеи", "Поздней осенью" и др.)вывел галерею героев, разочаровавшихся в жизни. Пов. "На войне" (1905) и ряд примыкающих к ней рассказов обобщили впечатления русско-японской войны и вызвали цензурные преследования. Последние годы жизни служил военным врачом в разл. гарнизонах.
В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ
"Привел меня Бог видеть злое дело…"
I
Это был очень хороший вечер — теплый, тихий, задумчивый и грустный. Широкая равнина, окутанная вечерней мглой, засыпала тихо и мирно; за день ее утомили горячие ласки солнца, и теперь она, удовлетворенная и усталая, была охвачена только одним желанием — успокоиться, отдохнуть, уснуть… А на небе зажигались одна за другой кроткие и грустные звезды, задумчиво и любовно глядевшие на землю…