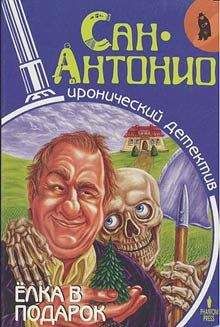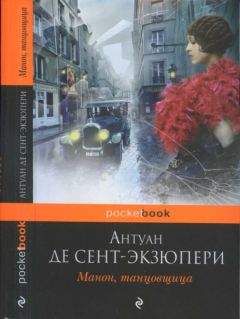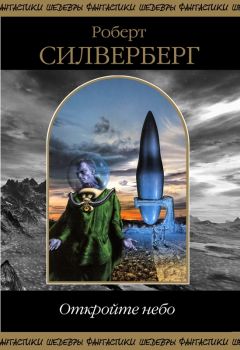не узнает.
Бернис, естественно, принимает приглашение Женевьевы.
Бедный Бернис!
Но божественное провидение в судьбе придуманного летчика – он сам, и слишком жестоким к Бернису он не будет: ужин, конечно же, состоится в элегантном ресторане, так что никаких нежностей между женой и мужем не предвидится!
И в ужасе поднимает глаза от клавиатуры.
Муж! Какой ужас! Любовник – слово красивое, оно говорит о любви. А вот «муж» звучит так, словно речь идет о профессии.
Муж должен быть иностранцем, это понятно, это уже решено. И задумывается о настоящем супруге Лулу – каком-то богаче-американце, с которым он не знаком. Он хорошо понимает, что тот никак не может быть виноват в его боли, но все равно питает к нему отвращение. В этом нет никакой логики, но это так. А потом думает: если бы ненависть была логичной, она бы перестала быть ненавистью – так же, как рассудочная любовь не была бы любовью.
Мужа будут звать Эрлен. И вот он набрасывает совершенно уничижительный портрет: низенький, фальшивый, упаднический, невежественный, с садистскими наклонностями…
Он наслаждается, пока стучит по клавишам. Даже о сигаретах забывает.
Мимо их столика идет официант, и Эрлен незаметно ставит ему подножку. Официант спотыкается, поднос летит на пол, посуда бьется, а тот еще и бранит его за неловкость. Менеджер увольняет официанта, у которого на руках жена и четверо детей, а Эрлен безжалостно смеется. Эту сцену он выстукивает со скоростью пулемета, в каком-то радостном возбуждении.
Скоро останавливается. Вздыхает. Закуривает еще одну сигарету и смотрит, как рдеет ее конец.
Он же понимает, что сцена получилась смехотворной. Эрлен не может быть таким. Лулу ни за что не вышла бы замуж за какого-нибудь хама или просто вульгарного человека. И подозревает, что она, что ни говори, была, наверное, некогда в него влюблена, будь он даже самым безжалостным человеком на свете.
Но я-то – граф.
И подумав об этом, грустно улыбается.
Самый бедный и незаметный граф на всем белом свете!
И снова становится серьезным. Не может он превратить мужа Женевьевы в злодея из радиоромана. Не может сделать из ее мужа врага человечества, да даже и врага Берниса – тоже не может. Жизнь иногда может позволить себе быть взбалмошной, но вот романы строятся по своим собственным правилам. Эрлен должен быть человеком образованным и даже пользующимся уважением. И все же он не может не видеть в нем антагониста, того, кто воздвигает непреодолимую стену между ним и его счастьем. Двое мужчин, которые любят одну и ту же женщину, не могут быть друзьями, потому что то, что их объединяет, одновременно их и разъединяет.
В конце концов он решает, что муж должен быть хорошо устроенным в жизни джентльменом, человеком воспитанным и светским, но несколько высокомерным, учтивым и вместе с тем – неуступчивым. Бернис пойдет на этот ужин со знакомыми Женевьевы и ее супруга в скромной роли старого друга, который в Париже проездом, а этим вечером оказался с ними по воле случая.
Тони мотает головой. Не верит он в слепой случай.
Если веришь в случай, это означает, что не веришь ни во что.
А он верит. Вера в нем живет. Сильная вера. Вот только имя его бога ему неведомо.
И когда на странице появляются три абзаца с описанием этой сцены, он берется за лист и безжалостно тащит его из-под каретки машинки. Валик поворачивается с жалобным скрипом несмазанного колеса, и лист взвивается в воздух.
Сцена в ресторане переписывается раз сто. Жак Бернис смотрит на все как будто сверху, пролетая на самолете. Женевьева, не прилагая к тому никаких усилий, алмазом сверкает на фоне бесцветных дам. Ее блеск ослепляет сотрапезников, не позволяя ее разглядеть. Они видят в Женевьеве ее красоту, ее безукоризненные манеры, ее умение себя подать, завидное самообладание. Но саму суть они не видят.
Самого главного глазами не увидишь.
Бернис знает ее гораздо лучше, знает ее с тех самых пор, когда она еще только прощалась с детством, и поэтому ловит практически невидимые вибрации в ее безупречных жестах. Отмечает некие интонации в ее голосе, когда она упоминает о сыне. Гости на этом ужине ее обожают, но быстро меняют тему: материнство их не интересует, тема эта скучная, консервативная. Им представляется просто расточительством, что такая умная и изысканная женщина теряет время на какие-то домашние заботы. Женевьеву они обожают, но при этом ничего не желают знать о столь приземленном предмете.
«Они ее любят, как обычно любят музыку, как любят роскошь…» – пишет он.
Но Бернис наблюдает и делает это молча. Материнство погружает ее в такие эмоциональные глубины, куда никогда не заводила пустая болтовня этих бессодержательных ужинов с дамами из высшего общества. Светская жизнь – это как фехтование на театральных подмостках. Бернис, знакомый с ней с ранней юности, замечает в ее кратком упоминании сына отголоски тревоги. Он-то знает, что Женевьева с ее талией, которую можно обхватить одной рукой, кажется хрупкой, но она сильная. Цветы могут выдерживать тайфуны. Если в ее голосе слышатся нотки тревоги, то это значит, что с ее сыном происходит что-то по-настоящему дурное.
По отношению к мужу она держится на некоторой дистанции, что он также замечает. Все очень мило: уступают друг другу слово, не противоречат и не спорят, он подливает ей вино, как только видит, что ее фужер пустеет… но есть в этой такой цивилизованной вежливости что-то от удушливости теплицы. Наступает минута, когда мужчины заняты ритуалом раскуривания сигар, а женщины увлечены разговором о шляпках, и в этот момент Женевьева поворачивается к Бернису и шепотом просит, чтобы он рассказал ей о пустыне.