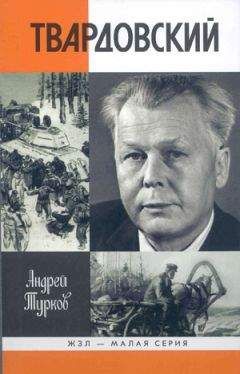Я смею думать, что письмо мое не покажется вашему сиятельству слишком длинным: я говорил с вами тем языком, который вы лучше других понимать умеете; и мне было легко с вами говорить им, ибо душевно вас уважаю и твердо надеюсь на ваше сердце. Оно научит вас, как поступить в настоящем случае. Представьте Государю Императору письмо Баратынского; прочитав его, вы убедитесь, что оно писано не с тем, чтобы быть показанным. Но тем лучше! Государь узнает истину без украшения. Государь в судьбе Баратынского был явным орудием Промысла: своею спасительною строгостию он пробудил чувство добра в душе, созданной для добра! Теперь настала минута примирения — и Государь же будет этим животворящим
примирителем: он довершит начатое, и наказание исправляющее не будет наказанием губящим. Заключу, повторив здесь те святые слова, которые приводит в письме своем Баратынский: "Еще ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его!" Сей отец есть Государь: последствия найдете в Святом Писании.
С истинным почтением и сердечною привязанностию честь имею быть, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугою
В.Жуковский.
2 генваря 1824.
* * *
Все-таки хорошие люди — т. е. честные, добрые, умные, с нежной душою никогда не помогут в том деле, где участия души не требуется. Надо бы просто, по-капральски, как солдат — солдату: "Унтер-офицер Баратынский сам вступил по высочайшей воле в рядовые пять лет назад, ныне служит в Нейшлотском полку в Роченсальме. К службе прилежен. В караулах исправен. Не штрафован. Посты блюдет. Нрава тихого. Стихов не пишет". — Кто устоит против подобной аттестации? И без всяких облобыза его!
Быть может, Голицын прочитал оба письма — и Василия Андреевича и Боратынского, а вероятнее, ограничился первым, а начав читать второе, соскучился быстро и передал Жуковскому, что сие не надобно, а надобны точные даты. Дат в своей исповеди Боратынский не назвал ни одной. Жуковский кинулся к Гнедичу, служившему вместе с Дельвигом в императорской библиотеке: "Милый, прошу тебя непременно, нынче же узнать, где хочешь и как хочешь, у Дельвига ли, у Вельзевула: когда именно вступил Баратынский в службу, и отошли это к Тургеневу с надписью нужное. Нельзя ли нынче же?"
Дельвиг никогда не был тверд в хронологии, Вельзевул в тот вечер был неблагосклонен к смертным, и они отправили Голицыну записку, где не было ни одной правильной даты: "Баратынский выписан из Пажеского корпуса в 1815 году с тем, чтобы его никуда иначе не определять, как в солдаты. Он вступил солдатом в лейб-егерский полк в марте 1818 года. Через восемь месяцев произведен в унтер-офицеры и с того времени служит в Нейшлотском полку. Начальство неоднократно представляло его к чину". — Последние слова были — из рук вон, потому что раз начальство представляло, а до сих пор не произведен, — значит, тут что-то не так.
От себя Жуковский сетовал Голицыну, что до государя так и не дойдет исповедь Боратынского, и выражал истинную надежду на то, что "Государь, знающий человеческое сердце, легко распознает язык истины, если удостоит своего милостивого внимания строки Баратынского, которого вся будущая жизнь, можно сказать, зависит теперь от тех немногих минут, которые Его Величество употребит на прочтение прилагаемого здесь письма его".
— Нет, нет, — должен был сказать Голицын на счет передачи исповеди Его Величеству, но обещал доложить. Видимо, он с удивлением узнал, что Боратынский сам вступил в службу, а не отдан (сам — многое меняет!).
Около 20-х чисел февраля Голицын доложил государю и, кажется, был выслушан благосклонно ("доклад князя Голицына был счастлив и для… Баратынского; но еще дело не кончено").
Дело двигалось общими усилиями.
Дядюшка Петр Андреевич тоже не немотствовал. Он велел племяннику писать к Елене Павловне — будущей, с февраля, великой княгине, супруге Михаила Павловича. Боратынский написал.
Петр Андреевич передал его письмо, видимо, через Жуковского и рассказал, что его любезнейшая сестра (т. е. вдова покойного брата и мать Боратынского) "от горести, произведенной в ней судьбою ее сына, лежит на одре болезни; а она имеет еще шестерых детей, из которых наш несчастный старший".
Тургенев тем временем медленно нажимал на Голицына и, видимо, он же написал в Москву к Вяземскому, чтобы тот поговорил с Денисом Давыдовым, а тот бы написал о Боратынском своему душевному приятелю Закревскому (Закревский до начала марта оставался в Петербурге и только 9-го числа уехал очно губернаторствовать в Гельзингфорс). Денис взялся за дело горячо:
— Любезнейший друг Арсений Андреевич!.. Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты, он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около 8-ми лет или более, неужели не умилосердятся? — Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и верно будет полезен. Я приму старание твое, а еще более успех в сем деле за собственное мне благодеяние… Твой верный друг Денис.
— Получил письмо твое вчера, любезный друг Арсений Андреевич… Ты пишешь о Боратынском — пожалоста постарайся за него, он человек необыкновенного дарования и если проступился в молодости, то весьма продолжительно и горько платит за свой проступок. Право, старание твое приму как собственное себе благодеяние… Итак, прости, друг любезнейший, верь непоколебимой дружбе и преданности твоего верного друга Дениса Давыдова.
— Любезнейший друг Арсений Андреевич… Пожалоста, брат, постарайся о Боратынском. Ты мне обещаешь, но приведи обещание свое в действие, ты меня сим крайне обяжешь. Грустно видеть молодого человека, исполненного дарованиями, истлевающим без дела и закупоренным в ничтожестве. Пожалоста, постарайся, а пока нельзя ли ему дать пристанище, при тебе ему, конечно, лучше будет, нежели в полку, и он тебе будет полезен. — Итак, прости, друг любезнейший и почтеннейший. Поцелуй от меня ручки у Аграфены Федоровны… Верный друг твой Денис.
* * *
Видимо, к делу подключили и двух адъютантов Закревского — Муханова и Путяту: чтоб напоминали.
— Закревский говорил и просил: обещано или почти обещано, но еще ничего не сделано, а велено доложить чрез Дибича. — Это уже Александр Иванович Тургенев посылает 24-го марта с Дашковым, едущим через Москву, письмо к Вяземскому (Дибич, генерал-адъютант, готовится вступить через десять дней в должность начальника Главного штаба), — …велено доложить чрез Дибича. На этого третьего дня напустил я князя Голицына; потом принялся сам объяснять ему дело и человека. Большой надежды он мне не подал, но обещал доложить в течение дней всеобщего искупления. — То есть в Пасху, когда Дибич должен был принять свое назначение. Дибич тоже полагал, что Боратынский отдан, а не сам вступил нижним чином. Любопытно знать, что полагал по этому поводу государь?
Александр Иванович настрого упредил на счет Боратынского весь пишущий Петербург и всю пишущую Москву: не объявлять нигде его имени под стихами. — Все-таки Александр Иванович, наделенный опытом многолетней службы бок о бок с идиотами, понимал толк в таких делах больше Жуковского. По этой причине в 824-м году Боратынский не напечатал ни одного нового стихотворения, а зимой-весной его имя вообще исчезло со страниц журналов. Рылеев с Бестужевым должны были отложить тетради с его стихами на неопределенное время.
* * *
Боратынский ждал решения в Роченсальме. Ждал с надеждой: "До меня дошли такие хорошие вести о моем деле, что, право, я боюсь им верить". — Но он верил, и веселость его, верно, ширилась час от часу, день от дня. Он проводил в конце января Коншина — с грустью, но веселость должна была остаться. Оставалась в Роченсальме и Анета.
Чудная, любезная, прелестная Анета Лутковская! Умом, любезностью своей ты всех обворожить родилась; Анета! где б ты ни явилась, всегда приобретешь друзей! Верный друг Анеты — разумеется, кузен, исписавший ее альбом старыми своими стихами, из тех, что некогда он посвящал Вариньке Кучиной (знал ли он, что они, вероятно, знакомы?) и С.Д.П.
О Анета! В обществе вечных сестер Аргуновых, в шелку и бархате, в улыбке и томной грусти, о Сандрильона Роченсальма! Что писать вам? Когда ты вспомнишь обо мне, в краю ином — потом, когда-то, когда ты вспомнишь, друг мой, не смотря на время между датой сегодняшней и той, когда ты воспомянешь, и когда ты вспомянешь как-то обо мне в краю ином, потом, когда-то, когда ты вспомнишь, друг мой, не…
— Нет, нет, нет! Я хочу что-нибудь более любезного.
Ах, Анета! Когда придется как-нибудь В досужный час воспомянуть Вам о Финляндии суровой, О финских чудных щеголях, О их безужинных балах И о Варваре Аргуновой; Не позабудьте обо мне, Поэте сиром и безродном, В чужой далекой стороне, Сердитом, грустном и голодном. А вам, Анеточка моя, Что пожелать осмелюсь я? О! наилучшего, конечно: Такой пребыть, какою вас Сегодня вижу я на час, Какою помнить буду вечно.