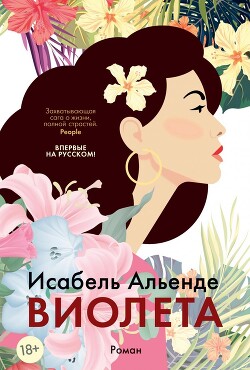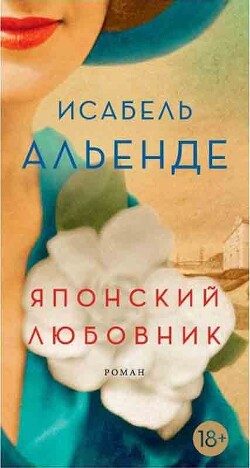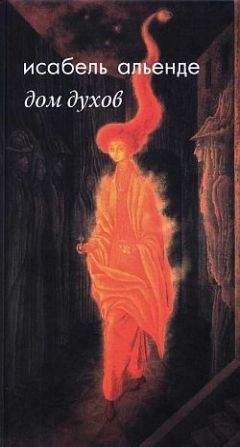будто это было вчера. Мне было шестьдесят четыре, а чувствовала я себя на тридцать. Мы провели великолепную неделю в Йосемитском парке, стояла ранняя осень, когда туристов становится меньше, пейзаж волшебным образом преображается, а деревья приобретают яркие оттенки — красный, оранжевый, желтый. Мы, как обычно, готовили ужин на мангале: свежую рыбу и овощи. Вдруг неподалеку показался медведь, огромное бурое чудовище, которое, переваливаясь, двинулось к нам и подошло так близко, что мы слышали его хриплое дыхание и могли бы поклясться, что чувствуем запах из пасти. Мы знали, как вести себя в подобной чрезвычайной ситуации, но в тот момент паника стерла инструкции из моей памяти. Следовало оставаться на месте, не кричать и не смотреть медведю в глаза, а я завопила и заметалась по поляне.
Медведь встал на задние лапы, воздел передние к небу и ответил мне громким ревом, который отозвался долгим раскатистым эхом. Рой не стал дожидаться развязки. Он схватил меня за шиворот и практически силой поволок к трейлеру. Нам удалось забраться внутрь и захлопнуть дверь перед носом у медведя, который в ярости набросился на трейлер и несколько раз его встряхнул, однако вскоре переключился на еду, которую мы готовили на костре. Утолив голод нашим ужином, а заодно и сложенным в пакет мусором, он уселся и принялся любоваться наступлением ночи с поистине буддистским спокойствием.
В ту ночь мы носа не высунули наружу и ужинали консервированными бобами. В какой-то момент медведь ушел, а утром мы быстро собрали вещи и уехали. Пожалуй, мне очень редко бывало так страшно. С тех пор я несколько раз ходила в зоопарк понаблюдать за медведями; издалека они красивы.
В ту поездку я обратила внимание, что одежда болтается на Рое как-то слишком свободно; он похудел, но, поскольку энергия и энтузиазм были у него те же, что и всегда, я не придала этому значения. На следующий день мы простились в аэропорту Лос-Анджелеса. Когда обнимались, я заметила, что он взволнован, даже прослезился, чего отродясь не случалось и не соответствовало его образу мачо.
— Передай привет моему сыну Камило, — сказал он, вытирая слезу ладонью.
Он всегда спрашивал о тебе и напоминал о том, что ты записан его сыном.
В тот день я и не подозревала, что мы больше никогда не будем спать вместе. Рой умер от рака годом позже. Он скрыл от меня свою болезнь, потому что хотел, чтобы я запомнила его здоровым, влюбленным и жизнерадостным, но со мной связалась Рита Линарес.
— Он одинок, Виолета, никто к нему не приходит, — похоже, у него семьи нет, к тому же он не разрешает звонить никому из своих друзей. Он переехал ко мне, когда больше не мог выносить болей. Мы дружим со школы, он присутствовал в моей жизни с тех пор, как я приехала в эту страну, я тогда была маленькой иммигранткой и едва говорила по-английски; он всегда приходил мне на помощь, как брат, когда я в нем нуждалась, — плакала она.
Я немедленно вылетела в Лос-Анджелес в надежде, что Рой все еще у Риты, но его уже отвезли в больницу. Это была та же больница, где ты родился и где я в последний раз видела Ньевес, те же широкие коридоры, люминесцентные лампы, линолеум на полу, запах дезинфицирующего средства и часовня с витражами. Роя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он все еще был в сознании. Говорить он не мог, но я видела по глазам, что он узнал меня, и мне хочется думать, что мое присутствие было для него последним утешением.
— Я люблю тебя, Рой, я люблю тебя так сильно, так сильно… — я повторяла это тысячу раз.
На следующий день он умер, держа меня и Риту за руки.
Ты рос так быстро, Камило, что однажды вечером заглянул ко мне в комнату пожелать доброй ночи, и я удивилась, увидев перед собой незнакомого молодого человека. Была пятница, ты пришел в школьной форме, то есть в поту и недельной грязи, с копной спутанных волос на голове и взволнованным выражением лица. Ты потерял велосипед и пробежал более двадцати кварталов, чтобы успеть до начала комендантского часа.
— Где ты шлялся? Уже почти десять вечера, Камило!
— Я протестовал.
— Против чего, можно узнать?
— Против военщины, конечно же.
— Ты с ума сошел! Я тебе запрещаю!
— Мне кажется, у тебя нет морального права мне запрещать, сказал ты и подмигнул с тем язвительным озорством, которое всегда меня обезоруживало.
Действительно, когда-то мне установили пластину на ключицу из-за участия в акции протеста, но мне просто не повезло. В то время я никуда не лезла, просто шла по улице, меня окружила толпа, и я не смогла убежать. Полиция набросилась на протестующих с дубинками, слезоточивым газом и водометами. Одна из струй швырнула меня об стену. В первые три дня после операции я боролась с болью сильными обезболивающими и марихуаной, но мне тогда пришлось месяц носить руку на перевязи, и терпение мое истощилось. В ту ночь я впервые испытала ужас, который не отпускал меня все оставшиеся четыре с лишним года диктатуры. Если ты ввязался в войну в четырнадцать, думала я, до совершеннолетия тебе не дожить, солдаты об этом позаботятся. От беспокойства за тебя я поседела, негодный мальчишка.
Со старой квартирой напротив Японского парка, который теперь назывался Парк-де-ла-Патрия, нам пришлось распрощаться, после смерти Хосе Антонио и мисс Тейлор она стала нам велика, к тому же не соответствовала моему новому настроению. Мы вчетвером — Этельвина, Криспин, ты и я — переехали в маленький домик, который обрушился во время землетрясения, помнишь? Он стоял далеко от центра города и Военного училища, где в основном происходили беспорядки. Переезд в новый дом стал еще одним шагом на пути к избавлению от всякого хлама, который раньше казался мне крайне важным, но с некоторых пор только обременял. Я отказалась от массивной мебели, персидских ковров, обилия украшений и оставила себе только предметы первой необходимости. Когда Этельвина отобрала то, что хотела бы оставить на случай, если решит жить в собственной квартире, которая до поры до времени сдавалась в аренду и приносила доход, я позвала стаю племянников и племянниц, с которыми в другое время почти не общалась, и предложила забрать все, что они пожелают; менее чем за два дня исчезло почти все. Мы переехали, прихватив с собой минимум вещей, к величайшему недоумению Этельвины, которая не понимала, зачем жить бедно, если можно позволить себе жить богато.
Зарабатывать