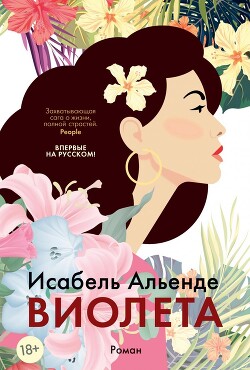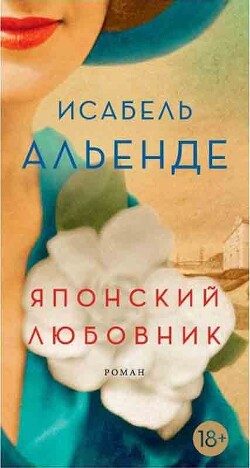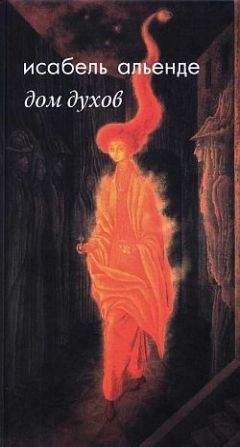виноградники, фьорды и ледники. Он полагал, что мы добры и гостеприимны, потому что судил о нас романтическим сердцем, почти ничего не зная о том, как обстоят дела на самом деле. Так или иначе, он решил, что свои дни он окончит здесь. Я никогда этого не понимала, Камило: если можно легально жить в Норвегии, нужно быть сумасшедшим, чтобы прельститься этой страной сплошных катастроф. До отставки ему оставалось несколько лет, и он добился назначения послом в нашу страну, где в ближайшем будущем планировал выйти на пенсию и жить на старости лет. Это было кульминацией того, о чем он мечтал всю жизнь. Он купил себе новый объектив, способный запечатлеть кондора на самой высокой вершине горного хребта, и поселился в скромной квартире с простотой лютеран-скандинавов, над которыми вечно подтрунивала Этельвина, а затем разыскал меня.
Мой последний возлюбленный, Рой Купер, умер год назад. После его ухода я распрощалась с романтическими иллюзиями и не думала, что способна снова влюбиться. Я была полна сил и энергии, женские организации поддерживали меня на плаву, я училась у них и участвовала в их деятельности, я была довольна жизнью и все еще молода; единственное, что я для себя исключала, — новую влюбленность и близость с мужчиной. Гормоны управляют человеческим поведением, Камило, а у меня к тому времени их количество значительно снизилось. В другую эпоху или в другой культуре — скажем, в какой-нибудь деревне в Калабрии — женщина шестидесяти с лишним лет считалась бы старухой и рядилась бы в черное. Именно такой старухой я себя чувствовала в том, что касалось секса, — столько суеты для секундного удовольствия! — но все же кокетство меня не покидало, и, даже потеряв интерес к тряпкам, я красила волосы и носила контактные линзы. Мне льстило, что время от времени кто-то думал, что я твоя мама, а не бабушка.
Харальд постепенно привыкал к моему образу жизни. Так, он регулярно выбирался со мной в Санта-Клару. Он возил меня на своем «вольво», дорога на ферму была такой же удобной и быстрой, как поезд; мы останавливались в деревенских харчевнях на побережье, где подавали лучшую в мире рыбу и морепродукты. «В моей стране еда из этого же сырья совершенно безвкусная», — заметил Харальд, который с таким же почтением относился и к здешним винам. Я навещала Факунду и женщин из нашей группы, а он отправлялся на поиски птиц, которых я видела уже сто раз. Мы останавливались в отеле в Науэле, который уже не был жалким городишкой времен Изгнания с единственной улицей и дощатыми лачугами. Науэль разросся, в нем имелись банк, магазины, бары, парикмахерские и даже сомнительный массажный салон с азиатскими нимфами. Харальд быстро стал моим лучшим другом и компаньоном, мы ходили на концерты симфонической музыки, гуляли по холмам, он приглашал меня на утомительные ужины в посольстве, где мне приходилось играть роль хозяйки, поскольку жены у него не было. Я же таскала его на протестные акции, которые становились все более многолюдными и дерзкими.
Мы еще не знали, что дни диктатуры сочтены; всесильная власть военных рушилась изнутри, и люди теряли страх. Политические партии были запрещены, но они оживились в подполье и готовились к возвращению демократии. Харальд выходил на уличные демонстрации, как на полевые наблюдения: в шортах, жилете с бесчисленными карманами, в ботинках и с фотоаппаратом на шее. Редкое было зрелище: высоченный, светловолосый иностранец, оторванный от реальности, возбужденный, как ребенок на карнавале. «Невероятно!» — восклицал он и фотографировал военных, стоя в двух шагах от них. Каким-то чудом ему ни разу не дали дубинкой по голове и не опрокинули струей из водомета, а от слезоточивого газа его защищали плавательные очки и носовой платок, пропитанный уксусом. Сделанные им фотографии публиковали в Европе.
Тем временем ты убежал из школы и отправился в рабочий поселок, где жил Альбер Бенуа, человек, обнаруживший мертвецов в пещере. Этот французский пастырь стал твоим кумиром. Он проповедовал Евангелие Христа-труженика и Церкви Освобождения, признанное крамольным. Вставал с распростертыми объятиями перед бронетранспортерами и автоматами, чтобы помешать солдатам нападать на мирных жителей; преграждал путь разъяренной толпе, которая собиралась побить солдат камнями, и успокаивал ее прежде, чем ее расстреляют. Однажды он рухнул ничком под колеса армейского грузовика, чтобы его остановить, в другой раз подставил грудь под пули. А ты, Камило, шел позади с местными бедняками, следовавшими примеру Бенуа: раскинув руки, они противостояли узаконенному насилию. Быть может, именно там, среди камней, пуль и слезоточивого газа, ты ощутил в себе зачатки будущего призвания?
Другие религиозные деятели были арестованы или убиты, но Бенуа, которого защищали небеса, всего лишь изгнали из страны. Голосов, восстающих против военного режима, становилось все больше, они сливались в один оглушительный рев, пока не иссякли безжалостные средства, призванные их заглушить.
Однажды в пятницу, когда мы были на ферме, я познакомила Харальда с женщинами из нашей группы, которые сразу же опознали в нем сумасшедшего иностранца, — они и раньше частенько видели, как он рассматривает небо в бинокль, подглядывая за ангелами. Кое-кто из этих женщин мастерил наивные коврики, пришивая к мешковине кусочки ткани; их сюжеты изображали суровую жизнь, тюрьму, очередь перед казармами, полевую кухню. Харальду коврики показались занятными, и он начал отправлять их в Европу, где они отлично продавались и даже выставлялись в галереях и музеях как произведения искусства сопротивления. Поскольку деньги полностью отдавали мастерицам, об этом поползли слухи, и вскоре коврики вышивали сотни женщин по всей стране. Сколько бы этих ковриков ни изымали власти, их становилось все больше; в итоге правительство разработало программу, поощряющую создание оптимистичных ковриков с изображением детей, водящих хоровод, и крестьянок с охапками цветов в руках. Но такие спросом це пользовались.
В тот вечер, беседуя с Харальдом о женщинах из этой и других групп, я призналась, что они подарили мне новую жизнь и все же я чувствую, что мой вклад — капля в море нужды.
— Столько всего нужно сделать, Харальд!
— Ты и так много делаешь, Виолета. Ты не можешь решить все проблемы разом.
— Да, но как защитить этих женщин? Однажды две-надцатилетняя девочка мне призналась, что ее главная цель — свергнуть патриархат.
— На данный момент это звучит слишком амбициозно. Сначала надо свергнуть диктатуру.
— Я знаю, что делать: надо создать фонд для финансирования целых программ, а не отдельных людей. Надо менять законы.
Так что я оставила себе достаточно средств, чтобы жить достойно и содержать внука, а остальное вложила в Фонд Ньевес. Когда я покину