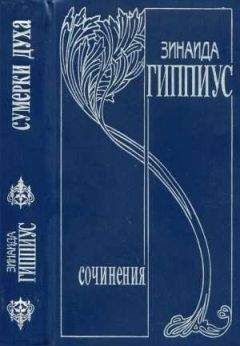Звягин взял револьвер, с резким звуком поднял курок и медленно, с осторожностью, приложил узкое дуло к груди Валентины, немножко вбок, ниже начала кружев. Мягкая ткань уступила, ее не чувствовалось, Звягину казалось, что он дотрагивается до тела.
Эта минута, которую они провели лицом к лицу, молча и близко глядя друг другу в глаза, казалась длиннее многих часов. Глаза Звягина были туманны, без мысли, как глаза зверя. И Валентина поняла в эту минуту, что стихийная, внешняя сила настигает ее, что все кончено. Холодная волна последнего ужаса пробежала по телу. Но душа осталась спокойной. Телесная болезнь, даже самая пустая, все-таки делает нам смерть более близкой, более родной. И эта случайная слабость, соединившись с мужеством перед пониманием смерти, сделала Валентину спокойной, непобедимой, почти дерзкой в последнюю минуту. И совершилось то, что случается чаще, чем иное: слабый убил сильного.
Звягин не помнил, когда он спустил курок. Дуло было слишком прижато к телу, звук послышался негромкий, неожиданный. Звягин видел, как вздрогнуло тело, точно от толчка, и упала приподнятая рука. Он не слышал ни крика, ни стона. Ему даже казалось, что ничто не изменилось. Крови он не видел, только розовая пена окрасила губы. А сбоку, на желтом и нежном, как пена, шелке дымилось темное, маленькое отверстие с опаленными краями.
И Звягин сидел и все смотрел, все смотрел неотрывно, не отводя безумных глаз от мертвого лица. Лицо делалось бледнее, тоньше и строже. Смерть, чистая и сильная, дала чертам последнее выражение правды, знания и спокойствия.
Воздух был тих и душен. Гибкие, ломкие, невинные златоцветы подымали головки, не смея благоухать.
I
Тишина. Такая тишина, что кузнечики молчат в густо-зеленой траве и птицы пролетают над парком без звука, без криков. В глубине, где деревья расступаются, видна долина, синяя, сизая, дымная, легкая – там как будто уже край света. Над долиной – белые тучи, тучи над парком и над домом, но небо все-таки кажется очень высоким, потому что долина слишком глубоко внизу, потому что видно до края света. Дмитрий Васильевич Шадров смотрел на полосатую маркизу террасы, приподнятую складками, на белое небо над мутной долиной и над близкими кудрявыми, исчерна-зелеными деревьями парка.
С белого неба стал падать дождь, редкий, осторожный, совсем бесшумный, точно он был очень робок и не хотел, чтобы его заметили. Дмитрий Васильевич едва ловил мерцанье капель на темной зелени деревьев. Тишина стояла прежняя. Лакей прошел мимо террасы, осторожно ступая; крупный гравий скрипнул под его башмаками, и он испуганно оглянулся; но никто из больных даже не поднял головы; они покорились тишине, и чем дальше она продолжалась, тем меньше хотели они освободиться из-под ее власти.
На южной террасе, той, где было место Дмитрия Васильевича, всех больных лежало восемнадцать. Террасы – низкие, в уровень с землей, широкие и светлые. Все восемнадцать больных лежали, не двигаясь, на длинных плетеных креслах, устланных матрасиками и подушками. Кресла стояли поперек террасы, изголовьями в стену, и отделялись одно от другого маленькими столиками. Дмитрий Васильевич не знал хорошенько, кто лежит у него справа, кто слева. Справа, кажется, все переменяются. Да и как разглядывать? Говорить почти все избегают – вредно; и о чем? О том, что сказал доктор? Какая температура? Когда можно уехать? Нет, лучше, естественнее, здоровее здесь эта выжидательная и неспокойная тишина. Она властная и жуткая, потому жуткая, что людей много, и все они вместе и так близко один от другого.
Дмитрий Васильевич глядел на полосы маркизы, на долину, похожую на море, на свое собственное вытянутое тело с ногами, прикрытыми толстым розоватым пледом. Рядом были другие ноги, закрытые пледом другого цвета, клетчатым; потом темно-красный плед, потом еще и еще… все разные. А вон, дальше, похожий на его, такой же розоватый, только, пожалуй, потоньше. Дмитрий Васильевич переводил взор, не повертывая головы, а потому и не видел ничего, кроме пледов. Ему не хотелось двигаться, как никому не хотелось. Всем было предписано лежать и не двигаться, – и они лежали и не двигались, и даже не кашляли от покорности, потому что кашлять было строго запрещено. Это дурная привычка.
Двое молодых немцев, лежавших рядом, в одинаковых велосипедных каскетках, приняли полусидячее положение и стали вдруг играть в шахматы на маленьком, разделяющем их столике. Они не обменялись предварительно ни одним словом, точно у них заранее было решено, когда начать партию. И во время игры они молчали, беззвучно передвигая деревянных королей и пешек. На них неодобрительно взглянула пожилая, румяная англичанка под клетчатым пледом, но тишина не нарушалась, и англичанка опять углубилась в свои письма. У нее была приспособлена деревянная подставка, чтобы писать лежа, и она писала непрерывно.
Эта англичанка строже всех относилась к порядку в санатории. Говорить она совсем не говорила, потому что болезнь ее была в горле, но взглядами смущала многих. Ей давно не нравился молодой русский с его длинноватым, немного бледным лицом, с белокурой бородкой и откинутыми, волнистыми, как у девушки, волосами. У него были рассеянные, мало выразительные глаза и худые, белые руки. Англичанке казалось, что он недостаточно серьезно относится к лечению. Он раз даже гулял в парке. Зачем приезжать в санаторию, если не хочешь вылечиться? Такое поведение мешает лечиться другим.
Южная терраса, которая называлась «Baccil-lentempe»[36], благодаря взорам англичанки, была самой молчаливой, строгой и благовоспитанной. В павильоне «Gircus Club»[37], в парке, было свободнее. Там лежали молодые американцы, в фесках, по форме павильона. Они иногда разговаривали между собой, хотя тоже немного. Была еще терраса или павильон «Обезьяны», с нарисованной обезьяной на флаге, и еще другие террасы и павильоны под разными названиями.
Дождик все шел. Складка маркизы слабо колебалась. Шадров, белокурый русский, кашлянул и повернулся на другой бок. Немая англичанка бросила на Дмитрия Васильевича злобный и строгий взгляд. Он его заметил, хотел улыбнуться, но не улыбнулся. К ужасу беспощадной дамы вдруг кто-то ответил на кашель русского сухим, не то старческим, не то детским покашливанием. Углубленные в свое молчание, в мысли о температуре, в напряженное ожидание здоровья, пациенты «Храма Бацилл» редко замечали, когда исчезал сосед, куда уезжал и какого клали нового. Но кашель заставлял подняться равнодушные глаза.
Рядом с русским, справа, лежала сегодня новая пациентка, под толстым серебристым пледом. Плед был дорогой, английский. Шадров, как и другие, взглянул на новую больную без любопытства. Но она, еще не привыкшая к тупому равнодушию больных, вдруг покраснела под их неожиданными взорами. Покраснела и опять закашлялась. Тогда все сразу отвернулись от нее и стыдливо, с ужасом, опустили глаза, точно она сделала что-то очень неприличное и нехорошее, и лучше этого не замечать.
Новая Пациентка не привлекла бы ничьего внимания, если бы лежала смирно, как все. Она не была красива. Тоненькая, худенькая, с нежным овалом лица, с желтоватыми детскими не то испуганными, не то задорными глазами, с остриженными, смешно торчащими волосами, – она походила на неблагонравного мальчика, которого наказали и которому не позволяют бегать. Лицо у нее было и старообразное, и очень моложавое, и никто бы не решил, сколько ей лет. Дмитрий Васильевич взглянул на нее мельком и опять отвел глаза. Где-то пробили часы.
II
Лакей в мягких башмаках, с подносом на плече (он разносил после четырех больным молоко в тесно составленных стаканах), дойдя до Шадрова, сказал по-немецки, что его спрашивает дама из Гейдельберга.
– Из Гейдельберга? Попросите в приемную, пожалуйста. Я сейчас выйду.
Он сделал неторопливое движение, чтобы встать, но приехавшая дама уже спустилась со ступенек, ведущих на террасу, и шла у нему.
– Здравствуйте! – сказала она, улыбаясь и протягивая руку. – Пожалуйста, лежите! Я сяду около вас.
Дмитрий Васильевич приподнялся и дал место даме на своем длинном кресле.
– Очень рад вас видеть, – произнес он с равнодушной приветливостью. – Только не лучше ли нам все-таки пойти в приемную? Или в парк? Здесь мы можем помешать…
– Есть соотечественники?
– Нет, здесь нет, кажется… Но люди занимаются… Привыкли к тишине…
Злобная англичанка уже вперила в них огненный взор. Она ничего не понимала, но догадывалась, на каком варварском языке они говорят.
– Мы потихоньку, – сказала гостья и опять улыбнулась. – Мне не хотелось бы нарушать ваш день. Потом мы пройдемся и в приемную, и в парк. Ведь немного ходить вам позволяется?