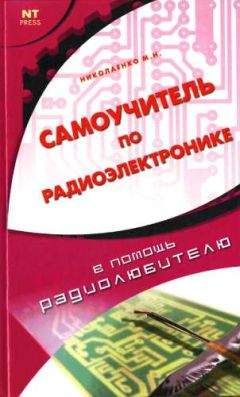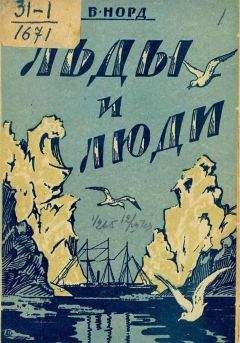class="p">Неисповедим
Здравствуй, Митя!
Трудный разговор предстоит нам с тобой, и, конечно, в несколько страниц не вместить, не вписать, все, что думано-передумано, пережито мною, может быть, неверно мной решено, истолковано, не вместить все, что чувствую я теперь, на пороге какого шага стою и что будет за той роковой чертой, когда шаг этот сделан будет.
Но к делу.
Письмо это не ошибкой, не случайностью обнаружил ты сегодня в почтовом ящике. Ведь сегодня именно ты проверить должен был, не пришли ли вместе со всем их рекламным мусором квитанции квартплаты, и ставлю здесь сегодняшнее число заранее, чтобы мог убедиться ты, что все дальнейшее будет не дурацкий чей-то розыгрыш и не шутка. Завтра же твое, для тебя сейчас наступившее, для меня вчера уж прошло. Кажется, всего один день отделяет меня от тебя, что такое день – один миг, и, тем не менее, для нас с тобой – непреодолимая пропасть, сквозь которую письмо мое мост, что сегодня же и сожгу. Сам, однако, ты, с догадливостью твоей, сможешь сообразить, что письмо это из прошлого в будущее. Знаю-знаю, что в моем объяснении не нуждаешься, не сердись и не хмурься. Не подозревай нехорошего в том, что знал я заранее твой сегодняшний день, Митя! Ведь письмо это пишется с тем только именно, чтобы все тебе объяснить. Объяснить, что знаю я в точности, как почтовый этот ящик твой выглядит, где от лифтов располагается, квартиру и адресата. Знаю, что открываешь ты его не ключом – так хлипко держится дверца, что ногтем можно подцепить, ногтем ты его и открыл, всегда так открываешь. Здесь, сейчас, прочтя про ящик этот, подумал только что ты, что пишет тебе сумасшедший, имеющий какую-то манию до тебя, неизвестный тебе преследователь и опасный. Ну, сознайся, Митя, подумал? И опять, мой мальчик, не могу отказать тебе в прозорливости, ибо, конечно же, ты и есть моя мания, но что такое мания, Митя? Древнегреческая ли богиня безумия, божество ли умерших, бред преследования или преследователя? – может быть, ошибка, всего лишь моя бредовая убежденность в истинности того, что сейчас тебе я пишу. Нет, я никогда не следил за тобою в буквальном смысле, как знаешь ты это слово, никогда идущим в толпе ты не отличил бы меня от других. Я следил. Да. Но я следил мысленно. Заклинаю тебя! Не иметь ко мне подозрения в том, что хотел навредить тебе этой слежкой, дочитай, и ты все поймешь.
Да, я знаю тебя с рождения, да, в каком-то смысле я и есть тот самый отец, «герой», о котором мама твоя тебе говорила, тот папа, возвращенья которого ждал ты все детство, и с тем – трусливый предатель твой, что во все времена, начиная с рождения, был с тобой, но ни разу не решился приблизиться. Сколько раз я хотел это сделать, Митя! Обнять тебя, положить повинную голову на плаху суда твоего. Ты жалостлив, мальчик, ты добр, и простил бы отца своего, его слабость, знал и знаю это в тебе, и все же я не решился. Мне дороже была свобода. Я был молод, был увлечен, я не знал ничего сильнее страсти творить… И вот что я натворил с собой и с тобою.
Сколько раз ждал я, Митя, у школы тебя, уже почти решившись к тебе подойти, подойти… что сказать? «Здравствуй, Митя»? «Здравствуй, сынок»? «Я твой папа»? Воскреснуть из героя шутом? Неудачником недостойным, не оправдавшим надежд ни своих, ни лиры? Послужить примером, как темна, норовиста и неподвластна ни одному седоку та лошадка, на какую поставил? Помню, как ты, совсем еще маленький, готов был вступить в бой со всем миром за… за меня, твоего «героя-отца», отца – изменщика и предателя. Труса. Помнишь, Митя? Ты говорил – «мой папа гелой союза»? Союза тех несчастных безумцев, что все счастье, всю жизнь свою принесли служению музе. Одиночеству. Вечности. И теперь, перечитывая это признание, сознаю, в какой степени виноват я перед тобой, но и больше перед собой, собою одним судимый. Ибо нет судьи справедливей и страшней очевидца, а единственный очевидец дряни своей – человек.
Стоила ли моя вечность, мое бессмертие краткого счастья жизни держать тебя на руках? Видеть воочию, а не мысленно, первый шаг, шаг ко мне, ждать, когда ты назовешь меня папой… Учить азбуке, проверять тетради твои… Но, Митя! Мысленно твой отец, пусть трус, пусть предатель, мысленно я всегда был с тобой, мой мальчик, мой сын, мой единственный сын. Мое продолжение.
Вот теперь, Митя, подошел я к главному. К цели письма того, что сейчас ты держишь в руках. Вижу, как они дрожат, твои руки! Знаю, настанет день, когда мое страшное наследие поманит тебя, поманит проклятой вечностью сатана. Это он нашепчет в ухо твое: «Вечность предлагаю тебе…» – и ты бессилен будешь отвергнуть мой страшный дар, что дан тебе мной в наследие, как однажды оказался бессилен я, возомнив власть пера со-властью творения. Не верь же дару этому, Митя!
Как же я люблю тебя, как любил всегда, мой сынок, мой взрослый сын, и именно от того, что так чувствую в тебе вот это, свое, что служило мне в жизни вечным компасом и проклятием, заклинаю тебя! Не поступай на филологический! Ты погубишь жизнь, а взамен одна вечность поднесет тебе стакан с ядом. Это муза служения ничему, это муза самосожжения. Митя! Дочтя письмо это, выйди из дому, дойди до метро, такая теплая осень… Божественно пахнет летом… Выйди к памятнику на Пушкинской и взгляни, какая награда досталась одному из всадников вечности. Апокалипсис одиночества – вот и всё величие этого нерукотворного монумента. Лишь влюбленных не зарастает поныне к нему тропа. Там они ждут друг друга, ибо в жизни и от жизни, сынок, больше нечего ждать. И только голубиный помет венчает его окислившиеся медные кудри, ибо вечность там, где сидят под этим про́клятым памятником он и она, на секунду забытые временем, и одно мгновенье их смертной любви дороже его бессмертия.
Да. В какой-то момент тебе покажется, что ты призван творить миры. Но, мой дорогой! Мы и без того живем в мире, выдуманном друг другом. Да, мы не вечны, и иной раз гордость ли, спесь ли заставляют уверовать, что мы в силах создать такие истории и таких героев, что плотью своею буквенной будут нетленны среди смертного в нас, оживут среди живущих до того, что подарят написавшим их имя в вечности. Но, Митя! Я слишком поздно