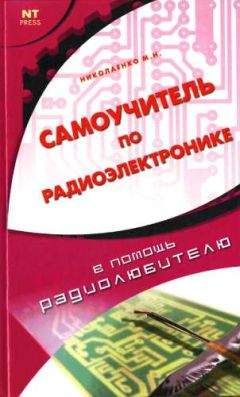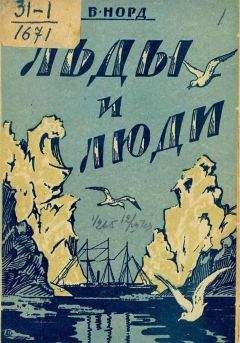понял это, увы. Митя – ты мое имя. И пусть навсегда твой лист останется белым, но будет пусть неумело, с ошибками, каких не исправить, будет исписана жизнь твоя, и тобою написана, а не мною.
Митя! Сын! Ты не знаешь, как далеко можешь ты зайти на этом пути в бессмертие. Безумие – или влеченье? – оно непреодолимое, эгоизм создателя ослепляет, власть кажется бесконечной и безнаказанной. Скольких убил я на этом пути… Вот они, мои мертвецы, теперь толпятся, поджидают меня за порогом. Бессмертие ада – одиночество – вот что даровала мне моя муза. Краткий миг рая – вот что мог даровать мне ты.
Милый мальчик, добрый мой сын, который верил всегда, что однажды я появлюсь на пороге. Довольно ли тебе будет этого письма, моего первого к тебе, и последнего, Митя, совета, опыта моего страшного пройденного пути, я не знаю, но заклинаю тебя: прежде чем потянутся пальцы твои к перу, погладь ими голову сына.
Не пиши. Никогда не пиши!
Вот и все, сынок. Не пытайся меня найти. Уже сейчас ты говоришь с мертвецом, и эта наша первая с тобой встреча – прощание. Письмо из бесконечности в ту конечность, что казалась мне жалкой, а теперь единственной имеющей смысл, но уже недоступной. Жизнь. В которую тебя отпускаю.
Что она такое, сынок? Жизнь – единственный шанс пожить… перед смертью.
Твой автор
Завещание Булкина Федора Михайловича следующим поколениям
О любви же странные выводы, хоть ты режь. То на рельсы от нее бросится Анна Каренина, то сама пройдет она без следа. Это только собственный опыт наступающим поколениям: от любви однажды каждому захочется под поезд-то броситься, потерпите, дети, пожалуйста. Ради нас.
Искал намедни «Онегина», захотелось перечитать. Я бы и «Героя нашего времени» перечитал с большим удовольствием, не нашел. Все «своим подлецом» заставлено сверху донизу, листика не приткнешь. На земле небо держится, на мною написанном – потолок.
Это сколько ж я натворил?! И читать теперь, себя кроме, некого, а себя читать не хочу. Все же взял из любопытства томик один, года издания века прошлого. Стариной дохнуло такою ласковой, как от книжных полок у бабушки. Да была ли у меня бабушка? Или сам ее написал…
Перепуталась правда с правдою, жизнь с написанным, не отличишь, и похожи переплеты черные на гробы. Остается героем времени не живой – написанный человек. Тот бессмертный, кто не жил.
Стал читать – никуда не годится. Люди дряни все какие-то у меня, кто не дрянь – того кирпичом. Смерть за смертью в пушечное мясо творения. Это сколько же душ-то, думаю, погубил ради своего чернильного зуда?
Как живые они ко мне из бумажных могил восстают, сонмы глаз, сонмы рук, во прах бумажный спрессованы, говорят: за что ты нас, Федор Михайлович, погубил.
Сам не знаю, да только это так, ни за что, от творения до творения, жизнь без смерти, милые, не правдива… Да и все казалось мне, дальше – лучше человека я напишу.
Стало жалко вдруг одного, пролистнул. Наобум открыл, там еще один, мной убитый. И все это как-то без жалости, как рука повела, и не помню совсем рассказа этого, а их сколько писано у меня… Зашумело в ушах. Голова же сделалась тяжела, точно не посреди прихожей стою – посреди колумбария. И листы мои не бумажные, все гранит. Как Пилату, хочется умыть руки.
Тьфу ты господи, думаю, ерунда какая-то. Кого жалею, сентиментальный дурак? Прах бумажный. Да и воскресить их – раз плюнуть.
Очень понравилась, окрылила эта идея меня. На три жизни хватит вперед. Вот пути господние, думаю, неисповедимые, надоумили, привели. Уж я так воскрешу их всех, что своих не узнают.
Сел за стол. Пока грузился компьютер (дрянь древняя, нужно новый купить), весь извелся от нетерпения. Ведь сейчас, пока ждешь, все желание воскрешать прогорит. Снова томик взял в руки. Думаю, пока жду, хоть выберу наугад, кого первого воскресить. Смотрю меж страниц уголок. Закладка. Будто кто опять подсказал. Открыл, а там фотография черно-белая, и на ней дитя улыбается.
Воскреси, говорит, меня, папа.
Разбирал сегодня письменный стол, записную книжку бабушкину нашел, завалилась за ящики. Вот листаю теперь, от «ать» до «ятъ», ее тайнопись.
Где карандашом имена, где ручкой, фломастером, где почти не видно уже, неразборчиво, где зачеркнуто, переправлено…
Феодора
Антонина
Нина
Анна
Светлана
Ирина
Григорий
Юлия
Анна
Михаил
Вадим
Антон
Галина
Егор
Евгения
Александра
Ольга
Александра
Алексей
Сергей
Татьяна
Таисия
Тамара
Раиса
Владимир
Марк
Леонид
Евгений
Виктор
Виталий
Максим
Павел
Елена
Лидия
Наталья
Петр
Георгий…
Все не по алфавиту, не по фамилиям. Как она от Ани Аню-то отличала? Федора от Федора?
Федор
Степан
Андрей…
И не знаю, какие живые из них, кто мертвые. Все они у бабушки здесь. И никак не разлучишь, не различишь. Живые и мертвые. В одном списке.
Ф.М. Булкин
– Плохо что-то выглядите, Федор Михайлович, – говорит сегодня издатель. – Тяжелое пишите. Устали, наверное. Может, вам отдохнуть?
– Устал, – отвечаю, – Бес Афанасьевич. Но не до такой, как вам желаемо, степени. Смены нет. Коли я уйду, такое здесь вы без меня понапишите, что все прежнее покажется раем.
* * *
Обойдется веник без прутика, небо без чижика, система без винтика, засбоит – закрутят другой. Обойдется и жизнь без отдельного человека. Нет на свете больше его, а троллейбус пришел, проглотил толпу и поехал. И такое чувство с тем возникает обидное, что как не было человека…
Днесь стоим, товарищи, ночь стоим, днесь стоим, ночь стоим – перед выбором. Шаг стоим, два стоим. Жизнь стоим. Кто не выбирал, тот и не жил. Выбор же есть шаг из известного в неизвестное на пороге общего жизненного итога. Что же выбор такое есть, если этот итог меж всех нас один, и разумно ли бултыхаться? Не зовет ли к смирению, не