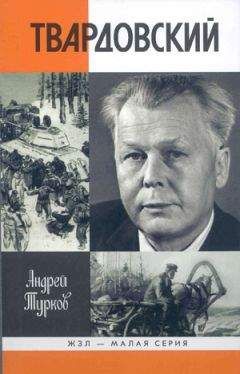25-го сентября был день рождения С.Д.П….
В таких положениях можно утешаться одним: есть люди в таком же или, быть может, худшем положении. Вот Абаза. Переведен в Нейшлотский полк в прошлом году. Его разжаловали из юнкеров тоже в 816-м, он сразу был отдан и действительно служил, не имея дядюшки — полкового командира; восемь лет служил, и только в прошедшем августе стал унтером. Сколько ему теперь ждать офицерского чина? Правда, Абаза разжалован за кулачную расправу и дерзостный язык… Однако и Креницын был отдан за буйство и бунт. Но Креницын уже прощен и прапорщик… А Пушкин не прощен, и за четыре года его высылки ему не было ни отпусков, ни маршей в Петербург, ныне же он поселен вовсе на безвыездное житье в свою псковскую деревню. Пушкину, конечно, проще — он не в степях рожден, он, и утопая по горло в болоте, будет свободен, потому что свободе его не нужно подтверждение далью земного простора. Он же гений… А когда гений вселен в человека — что ему зависимость, несчастия, судьба? — Все это служит пищею гению.
"…но вот беда: — я не гений… В молодости судьба взяла меня в свои руки… Для чего ж все было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти. — И этот смех служил бы ответом вольнодумцу; но… мы верим чему-то. Мы верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моем понятии для лучшей оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом — такие сокровища, которые не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастием, ни самый гений, худо направленный".
* * *
Впрочем, о том, что гений Пушкина — "худо направленный", он если и мог думать — только однажды: когда все, кто Пушкина знал хорошо, думали о нем плохо — весной 825-го года, — тогда вдруг выскользнула давняя, еще 817-го или 818-го года, эпиграмма против Карамзина ("В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастья необходимость самовластья и прелести кнута"). Конечно, в 825-м году после всего, что Карамзин для Пушкина сделал, такая эпиграмма была подлостию. — На Пушкина как-то особенно правдоподобно умели клепать, как ни на одного человека. Вероятно, видя, что даже глухая деревня и полная неопределенность будущего не пронимают его, судьба избрала для его преследования злые языки. Не умея никак взять его в свои руки, долго, очень долго (при ее-то могуществе) она не могла его прикончить слухами и клеветой. Так и весной 825-го года слух о свежести мальчишеской эпиграммы рассеялся как дым.
(На посмертных мнениях о приятельстве Пушкина с Боратынским она тоже поставила свою печать. Около 860-х годов выполз новый слух, и по роковому закону отражения и повторения Пушкину, о котором теперь все вспоминали только добродетельное и прекрасное, Боратынский в этом слухе тайно завидовал и чуть ли не говорил: "А ныне — сам скажу — я ныне завистник. Я завидую; глубоко, мучительно завидую". — Конечно, нельзя не удивиться в очередной раз изощренной, почти математической продуманности мелких деталей, которыми изобличает нас клеветник. Сальери у Пушкина говорит: Я не гений, и Боратынский в письме к Путяте, отрывок из коего мы привели на предыдущей странице, говорит: Я не гений. Чего ж вам боле? — По счастью, против математических истин клеветы есть язык старой дружбы, чья сила в нелогичном знании того, как было на самом деле. В конце концов, даже если мы сами уже вкушаем небытие средь элизийских пиров, друзья, оставшиеся без нас там, на земле, придут на подмогу. Боратынскому с Пушкиным успел помочь тогда, около 860-х годов, Соболевский, сухо и лаконически сказав: "Это сущая клевета", — и тем решил задачу.)
* * *
Как бы ни хохотали черти, он имел право сказать себе: я не гений. Есть такие истины — как полезные советы Вовенарга или Ларошфуко — оформишь их в слова, и кажется: вот всех загадок разрешенье! Но боже! Какое гнетущее разрешенье!
Что такое гений — ясно, но кто такой не гений! Гений наоборот? Так сказать, превратный гений? — Человек, каких много, которых мы тысячи встречаем наяву, особенно среди тех, в ком резко видна и холодность, и мизантропия, и странность? Человек, чье сердце, жадное счастия, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний, ставит его в положение большей части молодых людей нашего времени? Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли… Он имеет некоторые таланты и не имеет никакого. Ни в чем не успел, а пишет очень часто…
Не гений — это портрет целого поколения (Пушкин не в счет). И что ему ответить на это для чего же все было так, а не иначе? Какое утешение прибавить?
Такое: что, хотя и мизантропия, и сердце, неспособное предаться, и толпа беспредельных желаний, — мы верим чему-то. Пусть это будет добро и красота, ибо если нет добродетельного и прекрасного, не из чего родиться тихой и нравственной жизни — тому оплоту, тому пустынному углу, той обители дальней, где смертный, давший тягу от своего века и своих современников, сохраняет для своей пустыннической жизни нежную подругу, надежно сторожащую его любовь, и двух, трех, четырех друзей, в переписке с которыми оживает душа новыми мыслями и согревается сердце.
Итак, пусть пищею не гения будет жизнь внутренняя: прекрасное и добродетель, совершенствующие вкус и самосознание — лучшую оценку хорошего и что-то улучшенное во мне самом. А хранящим его талисманом — поэзия, ибо внутренняя жизнь, не имеющая выхода, своим следствием имеет всегда одно: распад, неважно чем" выраженный, — немым воем безумца или бессловесным выкликом пропойцы.
* * *
"Дела мои все хуже… Это более, чем всегда, уводит меня к плетению рифм, доказывая, что истинное мое место — в мире поэтическом, ибо в мире существенности мне места нет…"
"Стихи все мое добро…"
* * *
В начале октября штаб Нейшлотского полка переезжал из Роченсальма в Кюмень-город; там полковник Лутковский выбрал для жительства дом, где обитал некогда Суворов.
* * *
Мы покидаем Роченсальм, любезная маменька. Закревский, исполняя просьбу полковника, позволил ему занять просторный и прекрасный дом в Кюмени, дом принадлежит казне. Это всего в семи верстах от прежних наших квартир. Полковник берет меня с собою в помощь жизни. Достойно примечания, что я займу в этом доме именно те две комнатки, которые занимал когда-то Суворов — когда строил Кюменскую крепость. Но раньше начала октября мы туда не попадем. Письма же можно адресовать в Роченсальм, как и прежде.
Я веду жизнь вполне тихую, вполне покойную и вполне упорядоченную. Утром занят немногими трудами своими у себя, обедаю у полковника, у него провожу обыкновенно и вечер, коротая его за игрой с дамами в бостон по копейке за марку: правда, я всегда в проигрыше от рассеянности, зато, благодаря этому, меня видят, по меньшей мере, учтивым.
У нас прекрасная осень. Кажется, она вознаграждает нас за нынешнее плохое лето. Я люблю осень. Природа трогательна в своей прощальной красоте. Это друг, покидающий нас, и радуешься его присутствию с меланхолическим чувством, переполняющим душу.
Полковник получил письмо из Ржева, принесшее крайне неожиданные новости. Неурожай привел там к настоящему бунту. Крестьяне уходят из своих домов. Более трех тысяч человек оставили уезд. Все крепостные. Перемена мест не обходится без буйства: они начинают с того, что захватывают все, что могут, в домах своих владельцев, собираются толпами и клянутся друг другу, одни против господ, другие против правительства, третьи против Ар. [Против Аракчеева.] Невеселая забава. Вы уже получили эти новости?
* * *
Но в кюменский дом Суворова он попал только в феврале следующего года.
* * *
Любезный друг Арсений Андреевич… Благодарю тебя, что сердце твое не застывает ко мне и под созвездием медведицы… Повторяю о Боратынском, повторяю опять просьбу взять его к себе. Если он на замечании, то верно по какой-нибудь клевете; впрочем, молодой человек с пылкостию может врать — это и я делал, но ручаюсь, что нет в России приверженнее меня к царю и отечеству; если бы я этого и не доказал, то поручатся за меня в том те, кои меня знают; таков и Боратынский. Пожалоста, прими его к себе… Верь совершенной преданности верного твоего друга Дениса.
* * *
И в начале октября, еще не переехал штаб нейшлотцев в Кюмень, Закревский велел Путяте написать к Лутковскому, чтобы тот командировал Боратынского в Гельзингфорс. Не без сожаления, должно быть, но с желаньем удачи проводил его Лутковский.
Около середины октября Боратынский выехал в Гельзингфорс. Сердце его должно было томиться предчувствиями. Обстоятельства его менялись. Не знаем, в каком качестве Закревский определил его к штабу Финляндского корпуса, но полагаем, что свой унтер-офицерский мундир он, как и прежде, не распаковывал.
Узнав о перемене места, все в Петербурге, хлопотавшие о нем, с облегчением вздохнули, ибо, как ни был солдатоват Закревский, он был un brave homme [Славный малый (фр.).] и на свой лад честный человек. И теперь, когда Закревский убедится воочию в том, что такое Боратынский, он, и без напоминаний Дениса, сам возьмется за дело.